Вторая часть. Первая часть — https://miaban.ru/bereg_1_rus/
Нам, увы, не удалось встретить двадцать третье февраля в шикарном «Гюлистане», как мне не удалось исполнить обещание, данное новогодней ночью маме, – привести Рену к ним с отцом в гости восьмого марта.
И вообще начался новый год отнюдь не благоприятно. Рена простыла и слегла, я ходил в расстроенных чувствах до тех пор, пока она не поправилась и мне не удалось наконец увидеть её.
В конце января в редакции разразился скандал между Тельманом Карабахлы-Чахальяном и сотрудником его отдела Геворгом Атаджаняном. «Или я, или он, – нервно расхаживая по коридору с взятой у кого-то, да так и не раскуренной сигаретой в руке, повторял Тельман. – Всё, клянусь моими сынками-двойняшками, что растут на мои тридцатитрёхпроцентные алименты, пойду к председателю. Мышка, она маленькая, да как угодила в большущий кувшин, разом испоганила, что там было. Потому как поганая мышь. Удачу мою похерил, жизнь мою поломал, в сахарную болезнь меня вогнал. Кто привёл сюда этого паршивца?»
Дело было не только в том, что два взрослых мужика перед всем коллективом поносили друг друга самыми последними словами. Своими нравами и повадками оба они стоили один другого, их скандалы и разборки давно стали притчей во языцех, но досадно, что про них узнало и руководство комитета.
В кабинете председателя комитета Эльшада Гулиева состоялся пренеприятный разговор. При нём присутствовали заместители председателя, все главные редактора, секретарь первичной парторганизации, председатель профкома. Человек около тридцати.
Молодой, но дородный, с головой, словно бы воткнутой в шею, председатель прочёл жалобу Тельмана и, сидя за столом и тяжело дыша по причине своей бронхиальной астмы, долго и раздражённо выговаривал виновным, особенно нашему главному – за то, что принял на работу такого интригана. Прочёл он и письмо жены Атаджаняна, в котором та умоляла помочь ей с алиментами. Было и ещё одно письмо – от некой Риты Григорян. Эта дамочка жаловалась, мол, Атаджанян с помощью ложных посулов обесчестил её и сбежал.
В конце концов было решено объявить главному строгий выговор, а Геворга Атаджаняна уволить. В редакцию мы поднимались в подавленном настроении. Главный расстроился и молчал. «Это разве человек? – уже в кабинете излил он своё бешенство. – Скотина неблагодарная, вот он кто. Что они теперь о нас подумают? Ты только вообрази, Лео, его по моей и прежнего главного рекомендации за день приняли в Союз писателей! Люди по двадцать лет без толку ждали, а этого за день приняли, чтобы поставить секретарём областной писательской организации. Сверху приказали – срочно принять. Я только потом узнал, как он это дельце прокрутил. И ведь не только это. Писатель Сурен Каспаров по просьбе Левона Восканяна прописал его у себя дома, устроили его корректором в журнале «Гракан Адрбеджан», а когда оттуда выгнали, он просил-умолял взять его на работу. Да и ты за него словечко замолвил, помнишь? А куда, скажи на милость, было деваться… Ну и веди себя по-человечески, не позорь нас. Гонорары ему выписывали высокие, ведь он же, думали, на детей алименты платит. А он, оказывается, ни копейки семье не давал. У меня в голове не умещается, что ж это за человек…
Нежданно-негаданно в кабинет вошёл Геворг Атаджанян собственной персоной. И как ни в чём не бывало, с беззаботным видом и кривой ухмылочкой на лице уселся на диван.
– Послушай, я тебя не понимаю, – не выдержал главный. – Должен же ты в конце-то концов уразуметь, что иные шаги нельзя простить, иные слова невозможно забыть, иные поступки способны смешать с грязью самого дорого тебе человека. Ты так себя держишь, будто получил премию или, по меньшей мере, выиграл в лотерею.
– А что, собственно, случилось? – нагло глядя на главного, невозмутимо спросил он.
– А что ещё-то должно случиться? Приказом председателя комитета ты уволен с работы.
– Знаю. И что с того? – равнодушно пожал он плечами и добавил с какой-то злорадной усмешечкой: – Буду за подаяние петь на кладбищах, улицы буду подметать, лишь бы вы порадовались. Что, коммунистом быть перестану?
– Первым долгом надо быть человеком. За что писатели Карабаха тебе бойкот объявили? – спросил главный и сам ответил: – За то, что бездельничал, вот за что. За то, что своими кривотолками всех перессорил, вот за что. До сих пор мог бы работать на областном радио. За что тебя оттуда выгнали? За аморалку. Перечислять пункт за пунктом? В журнале «Гракан Адрбеджане» пошли тебе навстречу, помогли прописаться, взяли на работу. А ты что натворил? Из суетных карьерных соображений ответил им на добро чёрной неблагодарностью. Без конца интриговал против достойных людей, клеветал на них. На тех, кто помог тебе, поддержал в трудную минуту. Тебе шестьдесят лет, пора бы уже за ум взяться.
– Мне шестьдесят, а все зубы на месте, полюбуйся. – Будто кобыла, у которой проверяют зубы, Атаджанян разинул себе пасть сперва с одной, потом с другой стороны. – Волосы на месте, мужская сила, слава Богу, на месте, в общем, полный порядок. Смотрите и завидуйте. На что вы ещё годитесь, кроме как завидовать? Да ни на что. Ну а напоследок спроси, нужны ли мне твои нотации, – скривив физиономию, бросил он.
– Одним словом, плюнь тебе в глаза, скажешь – божья роса. Знаешь, о чём я думаю? – Встав из-за стола, раздражённо сказал главный. – Думаю, что ты всё это делаешь с умыслом. Ты вознамерился опозорить армянскую интеллигенцию, и надо признать, это тебе, к несчастью, удаётся. Иначе как оценить, что после приезда из Карабаха ты нигде здесь подолгу не удерживался. Тебя отовсюду прогоняли, причём со скандалами, взашей. Мы из-за тебя сквозь землю готовы со стыда провалиться, а ты, как я погляжу, и в ус не дуешь.
– Именно так, поскольку я человек честный, – сказал он недрогнувшим голосом. – Поскольку таким, как мы, всегда приходится нелегко в окружении бесчестной публики.
– Таким, как мы… Кого ты имеешь в виду – себя да Роберта Аракелова?
– Хотя б и его. Завотделом в научно-исследовательском институте, кандидат наук, автор прекрасных стихов, написал докторскую диссертацию для директора института. Вам этого мало? Что до меня, то да, я человек в высшей степени честный.
– Эта высшей степени честность и заставила тебя подсунуть жену Тельмана Чахальяна под Сафара Алиева? – выходя из себя, спросил главный.
Чем больше нервничал главный, тем спокойней и наглей становился Геворг Атаджанян.
– Это моё личное дело – знакомить знакомых женщин со знакомыми мужчинами, и это никого не касается. – На его лице расплылась похотливая ухмылка. – Один лакомится, у другого слюнки текут, а? Кто такой Тельман Чахальян, чтобы наслаждаться такой женщиной? Да, это я их свёл и хорошо сделал. А ты что, наденешь на неё пояс верности или, как средневековый рыцарь, навесишь замок? Товар её, кому хочет, тому и даёт, ты кто такой?
Главный не обратил внимания на этот цинизм.
– Всю жизнь, – сказал он с отвращением, – ты, будто шут, кривляешься перед судьями, прокурорами, милиционерами и продаёшь людей.
– А тебе кто мешает?
– Я к этому не приучен, это твоё ремесло. Твоё и твоего дружка-пропойцы Роберта Аракелова. Я с его отцом, Каро Аракеловым, в редакции газеты «Коммунист» работал. Тоже был гнусная тварь. Я смотрю, по части армяноненавистничества сынок многое унаследовал у отца. Да и дружок у него – ты, рыбак рыбака видит издалека, – заключил главный. – За что тебе Гурген Габриэлян отвесил прилюдную пощёчину?
– Не твоё дело.
– За то, что здесь, в Баку, ты бесстыже волочился за его замужней племянницей. Ты дружил с корреспондентом «Азеринформа» Радиком Григоряном, а его сестра написала на тебя жалобу руководству комитета.
– Верный, как собака, да презренный, однако, – прошипел Атаджанян.
– С Жорой, братом Гранта Бабаяна, редактора газеты «Коммунист», ты вроде бы водил дружбу, а про Гранта между тем распускаешь грязные слухи, сочиняешь на него анонимки. Что ты за существо!
– Был бы Грант Бабаян приличным человеком, – сказал Атаджанян, и в его глазах мелькнул зловещий жёлтый блеск, – принял бы меня на работу, назначил бы завотделом, и мне бы не пришлось обивать пороги.
– Бабаян, как видно, знал тебя лучше, чем мы, потому и не принял.
– Не беда, не принял он, примет Эмиль Григорян, новый редактор.
– Верно, – усмехнулся главный, – человек он новый, тебя не знает, может, и примет. Но только корректором или посыльным. Хотя, сказать по правде, ты не заслуживаешь и этого.
– Но ведь я армянский поэт… Боже мой, боже, – по-актёрски воскликнул Атаджанян и простёр кверху руки. – Все кому не лень без конца сплетничают, злословят, ставят подножки, завидуют, ревнуют. Что вам от меня нужно, жалкие вы мои злопыхатели? Чтобы я сложил крылья, загасил двигатели моей реактивной ракеты и наподобие вас тащился по старым дорогам на телеге? С ума сойти, честное слово! Вы этого хотите, убогие вы мои? Не дождётесь! Я армянский поэт, и очень хороший.
Главный посмотрел ему в глаза и с горечью бросил:
– Да какой ты поэт, вдобавок очень хороший, если в твоём-то возрасте не напечатал в Армении ни единой своей строки.
– Тебе подобные ставили палки в колёса.
– Послушал бы, что рассказывал о тебе Гурунц.
– Гурунц? – Атаджанян аж подскочил. – Знаю, знаю, наслышан, о чём он тут наболтал. Ничего, скоро… гы-гы-гы. – Звуки, которые он издал, смахивали на конское ржание. – Скоро и Гурунц получит по заслугам, – ехидно и злорадно заявил он. – Гурунц понятия не имеет, что я въедливый клещ, если вцепился – не отстану, пока всю кровь не высосу. Тельман Карабахлы тоже не знал, а теперь знает, – сказал он, этаким вальяжным сценическим шагом подошёл к дверям и, не оглядываясь, удалился.
– Ничтожество ты, а не армянский поэт, – всё-таки бросил ему вслед главный. – Тоже мне краснобай – «армянский поэт, и очень хороший». Не то худо, что он дурак, а то, что выставляет это напоказ.
Случилась ещё одна неприятность, на этот раз связанная с Ариной. Последние два дня она всё время была сама не своя; прежнюю Арину – смешливую, жизнерадостную – словно подменили.
– Что с ней? – спросил я Лоранну.
– Сама виновата, вот и мается, – таков был ответ, ничего ровным счётом, однако, не прояснивший. На следующий день Арина принесла на подпись одну передачу, снова хмурая, задумчивая, вся в себе, глаза тоскливые.
– Ты чего нос повесила? Смех с улыбкой тебе идут больше, – сказал я. Арина улыбнулась сквозь слёзы:
– Вечно я тебя огорчаю, – сказала она, пряча глаза. – Не знаю, что делать. Я не хочу, само так выходит.
– Что именно?
– А то, что поневоле подложила тебе свинью, – вполголоса сказала Арина. – Прости меня, пожалуйста.
– За что? Ничего не понимаю.
– Сильва сказала мужу, что из-за меня её не взяли на работу.
– Но ты же сказала, что муж у неё против. Я так и передал Саиде.
– Сказать-то я сказала… – Арина залилась краской и сконфуженно посмотрела на меня. – А она сказала мужу, будто я… связана с тобой… а тот пошёл и моему мужу доложил.
В эту минуту дверь отворилась и в кабинет вошёл парень лет двадцати пяти – двадцати шести, белокожий и вдобавок с бледным от волненья лицом, и, не глядя в мою сторону, с бешенством обратился к Арине:
– Ты чего здесь делаешь?
Перед этим Арина стояла напротив меня. Лицо её побелело как полотно, и она не то что села, но рухнула на стул.
Я, разумеется, понял, что это Аринин муж, и грубо сказал:
– Слушай-ка, тебя как зовут?
Он обернулся и с яростью процедил сквозь зубы:
– Карен.
– Так вот, Карен. У себя дома можешь командовать, а это редакция, и будь любезен вести себя, как подобает.
Арина приоткрыла в испуге рот и, не сводя глаз с мужа, не смела слова сказать.
– Что она здесь делает? – обращаясь теперь уже ко мне и тяжело дыша, спросил Карен.
– Принесла на подпись передачу, – сказал я сухо и жёстко. – И если тебе это не нравится, мы можем сегодня же уволить её. Ты доволен?
– Нет, – сказал Карен. – Я сейчас отведу её к Сильве, вы её знаете, и если Сильва в её присутствии подтвердит, что она той сказала, тогда приговор ясен. – Неуловимым движением парень извлёк из кармана складной нож, нажал на кнопку, и выскочило лезвие.
– Тогда приговор ясен, – повторил он, и ноздри у него раздулись. – Этим вот ножом я убью и её, и вас, и себя.
– Вот что, – сильно разозлился я. – Лучше бы ты начал с себя. Вон отсюда.
Арина невольно вскочила и, понурив голову, выбежала из кабинета.
Карен холодно смерил меня взглядом и, не говоря ни слова, медленно сложил нож, убрал его в карман, оглянулся в дверях и вышел.
Что да, то да, новый год и впрямь начался неблагополучно. Ну а поздно вечером двадцать первого февраля совершенно неожиданно позвонил завотделом культуры ЦК компартии Азербайджана Азер Мустафазаде. Прежде Азер работал у нас, в русской редакции комитета по радио и телевидению. Потом недолго побыл представителем Союза писателей в Москве и столь же недолго – заместителем республиканского комитета по печати. В былое время мы с ним, Сиявушем и писателем Сейраном Сахаватом не раз сиживали в ресторанах, однажды встретились в Москве – в ресторане ЦДЛ, словом, были довольно близки.
– Лео, – сказал Азер, – завтра ты должен быть в Степанакерте. Там Рамиз Мехтиев. Зайдёшь к нему в обком, он скажет, что делать.
Рамиз Мехтиев был одним из секретарей ЦК. Прежде мне случалось иметь дело с высоким начальством, раза два бывал в районах с самим Гейдаром Алиевым – в Казахе, Исмаиллы, Агдаме и Мартуни, так что я не увидел в этом ничего странного.
– Ладно, – сказал я. – Сейчас уже поздно, поеду завтра.
Однако последняя его фраза, произнесённая вскользь: «Там взбунтовалось несколько стариков, надо б уговорить их покончить с их старческими бреднями», – последняя фраза меня насторожила. Он так и сказал: старческие бредни.
– Да нет, что ты такое говоришь, – возразил Азер. – Ехать надо сегодня. В Тбилиси идут два поезда – в одиннадцать и полвторого. Доедешь до Евлаха, а оттуда всего ничего – километров шестьдесят–семьдесят.
Фраза, произнесённая Азером как бы между прочим, не давала мне покоя. Я задумчиво расхаживал по дому взад и вперёд. Ехать в Степанакерт вовсе не хотелось. Решил позвонить главному, может, он знает что-то конкретное. Главного на месте не оказалось. «Владимир только что ушёл, – с сожалением сказала его жена Гехецик. – ЦК срочно посылает его в Гадрут». Я набрал было номер Азера, чтобы меня освободили от этого дела, но его телефон всё время был занят. Попытался дозвониться до других отделов – то же самое, в ЦК все телефоны либо были заняты, либо никто не брал трубку. Может, Сиявуш знает что-то? Нет, о Степанакерте он ничего не слышал. Я рассказал ему про звонок Азера, добавил, что мне неохота ехать в Степанакерт. «Старик, я тебя понял, – сказал Сиявуш. – Обожди, я тебе перезвоню». Спустя несколько минут раздался звонок, и Сиявуш объяснил, что в Степанакерте перед обкомом проходит демонстрация, требуют присоединить Карабах к Армении. «Я, старик, отлично тебя понимаю, – снова сказал Сиявуш. – Дело в том, что тебе и ехать плохо, и не ехать, это смотря с какого боку посмотреть. Азера нет на месте, там совещание. Я поговорил с завсектором Хейруллой Алиевым, изложил ему суть дела, он сказал, что позвонит тебе». И правда, немного погодя Хейрулла позвонил и сказал, что ничего не поделаешь, обязательно надо ехать. «Никуда не поеду, – твёрдо решил я и отключил телефон. – Пускай звонят, сколько влезет». Однако с утра пораньше ко мне домой явился самолично Хейрулла. В дверь позвонили, я открыл и увидел его – здоровенного, ростом выше двух метров, с проседью в волосах.
– Лео, надо ехать, – не допускающим возражения тоном объявил он. – Едет весь ЦК, есть члены политбюро, срочно отправляйся в аэропорт, должен успеть на десятичасовой рейс. Моя машина довезёт тебя до Аэрофлота.
У Аэрофлота я нарочно, чтоб опоздать на рейс, пропустил два автобуса. В депутатский зал явился с опозданием, в десять с чем-то.
– Мест нет, – сказали там. – Ни одного места. «Тем лучше», – подумал я, обрадовавшись удаче. Прямо оттуда, из депутатского зала, позвонил в ЦК, Хейрулле Алиеву, сказал, что в самолёте на Степанакерт мест нет.
– Что значит нет? – возмутился Хейрулла. – Будет дополнительный самолёт. Наши тоже туда отправляются. Дождись, улетишь с ними.
В самолёте нас было всего-то человек семь–восемь. Неподалёку от меня сидел инструктор ЦК Валерий Атаджанян – озабоченный, невесёлый. Остальные были мне незнакомы, беспечно, с шутками-прибаутками попивали кофе.
Настроение у меня немного поднялось, когда самолёт пролетел над Степанакертом и направился на посадку в Ходжалу. Сверху я разглядел, что на площади перед обкомом никого нет. В аэропорту нас встречали. Мы узнали от них, что со стороны Агдама на Аскеран движется толпа азербайджанцев, вооружённая топорами и ножами, лопатами и кинжалами, дубинами и камнями. Толпа рушит всё на своём пути, избивает, истязает десятки работающих на виноградниках армян, сожгла несколько армянских домов на подступах к Аскерану. Кое-как её задержали-таки военные, около тысячи человек, которые здесь, в горных условиях, проводят учения перед отправкой в Афганистан. Ужаснее всего, что убиты двое азербайджанцев. Брат одного из убитых, некто Гаджиев, сказал, что в его брата стрелял милиционер-азербайджанец.
На площади перед обкомом и вправду не было ни души. Мы поднялись на второй этаж. Здесь уже находился первый секретарь азербайджанской компартии Кямран Багиров, член политбюро Георгий Разумовский, кандидат в члены политбюро Пётр Демичев, другие высокопоставленные функционеры, генералы в форме и без формы. Здесь же был и Борис Кеворков. Я вспомнил, как говорил о нём Гурунц. Этот человек, наводивший некогда страх и ужас, испуганный и жалкий сидел сейчас в зале заседаний и озирался по сторонам, то и дело подталкивал указательным пальцем очки с толстыми стёклами на переносицу и взглядом, умолявшим о помощи, смотрел на выступавших.
Однако никто здесь его не жалел, да и никого не жалели. Выступающие метали громы и молнии.
– Прикрываясь фальшивыми речами о дружбе народов, вы годами сеяли вражду к моему народу, – бросил в лицо Кямрану Багирову поэт Вардан Акопян. – Вы годами подвергаете трудящихся области социальному гнёту и национальным гонениям. О какой дружбе речь, если на заседании бюро обкома завотделом ЦК компартии Азербайджана Асадов грозится, что в Карабах вторгнутся сто тысяч азербайджанцев и перебьют всё его население и что эти сто тысяч в полной готовности стоят на границе Карабаха в ожидании приказа? Ровно семьдесят лет назад точно так же нам угрожал одноглазый Султанов – мол, сто тысяч курдов и татар вторгнутся в Карабах, если карабахцы не согласятся наконец добровольно войти в состав только что созданного Азербайджана. Здесь присутствует первый секретарь Шушинского райкома партии Гаджиев, поинтересуйтесь у него, почему в городе разрушены шесть армянских кладбищ, почему изуродован памятник дважды Герою Советского Союза Нельсону Степаняну. Скажите, почему в день смерти нашего национального героя маршала Баграмяна на бакинских улицах устроили фейерверк, почему по этому поводу не было ни одной теле- или радиопередачи, почему об этом ни строчки не написали газеты. Не преследует ли антиармянская эта политика лишь одну цель – избавить Карабах, как в своё время Нахичеван, от присутствия армян? И не заключается ли наша вина только в том, что мы веками верны нашей древней земле и воде, нашему родному языку и нашей вере? Вы хотите второго Нахичевана? Не бывать этому!
– Всё это штучки Гейдара Алиева! – с яростью выкрикнул кто-то из последних рядов Все обернулись назад; то был инструктор обкома Армен Ованнисян – с поседевшими волосами, худощавый, с искажённым и бледным от волнения лицом.
Выступил Разумовский, выступил и Демичев; их выступления были до того беспомощны и выдавали такую неосведомлённость в сути дела, что я на миг ужаснулся – вот эти и им подобные распоряжаются судьбами людей и народов – и с болью понял, что заварилась каша, которую придётся долго расхлёбывать, и что нас ожидают беды и бедствия.
Когда мы вышли из зала заседаний, площадь уже бурлила, десятки тысяч человек на коленях молили: «Ленин, партия, Горбачёв».
Четверо суток ночью и днём я слышал эту беспрестанную мольбу, адресованную каменному Ленину, глухой и немой партии и хамелеону Горбачёву.
– Принимать на веру Горбачёва значит ничего не понимать в его политике, – сказал Максим Ованнисян, человек немногословный, приятный и благородный, один из тех тринадцати апостолов, кто в далёком 1965-м подписал известное письмо в Москву о присоединения Нагорного Карабаха с Армении и перенёс из-за этой подписи массу лишений. – Иной раз внимательно его слушаешь да так и не возьмёшь в толк, о чём же конкретно идёт речь. Уверен, он намеренно заведёт решение Карабахского вопроса в тупик, чтобы связать крах бессмысленной идеи о перестройке с этим движением и натравить на нас и власть, и прессу.
– Но ведь в ЦК пообещали нам помочь, – умиротворяюще сказал поэт Рачья Бегларян. Они с детским писателем Гургеном Габриэляном и Варданом Акопяном только что вернулись из Москвы и верили, что Карабахский вопрос непременно будет решён по справедливости. – Мы поведали там обо всех несправедливостях, которые азербайджанское руководство последовательно совершает в области. Нам сказали, что наши требования вполне оправданны.
Из кабинета редактора «Советского Карабаха» открывался вид на взбаламученную площадь.
– Чтобы верить Москве, надо быть или невеждой, или бездумным оптимистом, – изложила своё мнение завотделом газеты Нвард Авакян. – Москва против наших справедливых требований, она сделает всё, чтобы развалить и опорочить это движение, потому что наше требование самоопределения фактически сводит на нет договоры между Россией и Турцией 1918–1920 годов, в том числе и предательский в отношении армян и в высшей степени несправедливый договор «О дружбе и братстве» от 16 марта 1921-го. Это как раз и позволяет понять суть заключённого в Севре договора. В конце концов, разве Москва ценила когда-то многовековую верность армян, чтобы вдруг оценить сейчас? Вы только посмотрите, на площади десятки тысяч человек, среди них есть и азербайджанцы, никто не говорит и не скажет им обидных слов, но во вчерашней передаче Москва всех обозвала экстремистами. Это что, справедливо?
– Вчера здесь у меня был сотрудник ленинградского журнала «Аврора» Александр Василевский, – сказал Максим Ованнисян, не отводя взгляда от многотысячной толпы на площади. – Он встретился с родным братом убитого под Аскераном Али Гаджиева – Арифом. Гаджиев утверждает, что его брата на самом деле убил милиционер-азербайджанец. Это произошло на глазах у товарища Арифа, Ульви Бахрамова. Между братом и милиционером вспыхнула ссора, милиционер вынул пистолет и выстрелил в грудь брату, которому было двадцать два года. Ульви говорит, что не знает этого милиционера, но агдамского милиционера, поспешившего увезти убийцу на машине, знает очень хорошо.
– У этого убийства лишь одна цель, – вмешался в разговор Гурген Габриэлян. – Попомните моё слово, в ответ на наши мирные демонстрации по телевидению сообщат, что армяне убили двух азербайджанцев. О десятках наших раненых, которыми забита областная больница, даже не упомянут, о наших разрушенных домах, разбитых вдрызг автобусах и сожжённых машинах тоже не проронят ни слова, зато про убийство сообщат. Цель ясна – науськать два народа друг на друга, ну а потом довести это противоборство до межнациональных столкновений.
– А потом Баку и Москва начнут совместными усилиями выселять армян, – нежданно-негаданно сказал учитель Вагаршак Габриэлян из села Колотак. Высокий и худой, перед этим он молча стоял в углу кабинета. – И нам придётся прибегнуть к самообороне, – твёрдо добавил он, немного подался вперёд и наклонил голову, испытующе глядя из-под бровей. – По-другому нам не спастись. Мы обязаны защитить свою землю.
Я припомнил этот разговор через два дня, уже в Баку, когда направлялся с железнодорожного вокзала домой и таксист-азербайджанец сказал: «Вчера поздно вечером Москва передала, что в Степанакерте убиты два молодых азербайджанца».
Едва закрыв за собой дверь, я позвонил в Сумгаит родителям.
– У нас всё в порядке, – сказала мама. – Перед горсоветом толкутся человек сорок–пятьдесят, с балкона видно, но что говорят, не слыхать. У вас что, митингов нет?
– Да нет, никаких перемен, спокойно, – сказал я.
– Когда приедешь?
Я звонил им из Степанакерта, они знали, что дома меня не было. Я сказал, что только что приехал, на этой неделе не смогу, а вот на следующей обязательно приеду.
Никаких перемен не было и в редакции, всё то же самое.
– Видел главного? – спросила со смешком Лоранна. – Ступай, проведай.
Я открыл дверь кабинета и остолбенел. С забинтованной головой главный выглядел комически.
– Что случилось?
– И не говори, Лео, спасся от смерти. – Главный со смехом вышел из-за стола и шагнул мне навстречу. – Считай, заново родился. Садись.
Главный сел на место, я – напротив. Глаз у него тоже был повреждён. Смотрел он словно бы не на меня, а куда-то поверх головы.
– Сажусь я в Евлахе на гадрутский автобус, – начал главный. – Тихо-мирно доезжаем до Агдама. Откуда ни возьмись, человек двадцать, двадцать пять подростков, совсем ещё сопляки. Принялись забрасывать нас камнями, машина, понятно, покорёжена, стёкла вдребезги. Правда, водитель оказался молодцом. Не тормозя, добавил газу, мы и проскочили. По всей дороге, пока не выехали из города, с обеих стороны стоят эти камнеметатели. Многие ранены, вот и я тоже, голова в двух местах пробита. Доехали до Мартуни. Голову мне в больнице перевязали, ничего страшного. А несколько человек в тяжёлом состоянии, их госпитализировали. Ты как добрался? Что-то сделал?
– Ну, я-то был в составе правительственной делегации, – засмеялся я. – Мы в дороге кофе попивали. Должен был повидать Рамиза Мехтиева, да какой уж там Мехтиев, что ты! Переполох, светопреставление…
– Правду сказать, я даже доволен, что стал таким красавцем, – тихонько произнёс главный.
– Почему? – не понял я.
– Зачем нас, по-твоему, послали в Карабах? Чтобы мы приехали и по телевидению вразумили будто бы помутившихся рассудком карабахцев, квалифицировали их движение как инспирированное экстремистами и националистами, то есть подтвердили антиармянскую резолюцию политбюро. Ну-ка скажи, могу я в таком виде выступать по телевидению? – с победной улыбкой завершил главный.
– По телевидению – нет, – засмеялся я, – зато по радио – вполне.
Главный испуганно взглянул на меня.
– Типун тебе на язык! Послушай лучше, что я тебе скажу. Ступай домой, выключи телефон, пока не разберёмся, что происходит. Если позвонят – скажу, ты ещё не приехал. Ночную передачу смотрел?
– Я ночью в поезде ехал…
– Выступил заместитель генерального прокурора Александр Катусев. Неужели стоило в такой взрывоопасный момент оглашать недостоверные сообщения о гибели двух этих молодых агдамцев? Да ещё называть их имена, фамилии, даты рождения. Ты не усматриваешь в этом умысла? Лично я усматриваю.
– Я тоже, – сказал я.
По совету главного я отправился домой. Рена, должно быть, ещё не пришла из института. Я отключил телефон. Подключил только в половине четвёртого, полагая, что она уже дома.
– Алло. – Трубку взяла Рена.
– Привет, Рен, – сказал я, волнуясь. – Это я. Как ты?
– Здравствуй, – не сразу ответила Рена. – Я только что зашла. Ты сдала зачёт? Послезавтра увидимся в институте. – Она торопливо положила трубку.
Я улыбнулся Рениной изобретательности. Ясное дело, говорить она не могла. «Брат видимо стоит рядом», – подумал я. Не видел её несколько дней, страшно соскучился. «Послезавтра после занятий буду ждать тебя возле парка», – мысленно сказал я, вновь отключая телефон. Всякий раз, увидев у парка вблизи медицинского института машину, она на миг останавливалась, улыбалась, поспешно пересекала трамвайную линию и с чудной своей улыбкой на красивом лице лёгкой походкой приближалась. И всякий раз я ловил себя на том, что ужасно, до умопомрачения ревную её – вдруг там, в институте, кто-то положил на неё глаз, приударяет за ней; от этой мысли у меня слабели коленки, сердце беспорядочно, быстро-быстро колотилось, дыхание замирало, кровь стыла в жилах… «Цавет танем» – её излюбленное словечко. В эти несколько дней я, наверное, миллион раз думал о ней. «Знала бы ты, как я тебя люблю, – снова и снова повторял я Рене мысленно, – день без тебя – всё равно что год».
По местному телевидению про Карабах даже не вспоминали. Разве что два бакинца-пенсионера – один инвалид войны Сергей Хачатуров и второй, бывший сотрудник газеты «Коммунист» Каро Аракелов, – перебивая друг друга, говорили о дружбе, рассказывали, как они счастливы, что живут в Азербайджане.
Пустили в эфир парадный концерт, в котором певцы армяне исполняли азербайджанские песни, певцы азербайджанцы – армянские. Зейнал Ханларова спела шуточную песенку «Нуне»: «Нуне, Нуне, Нуне, о, стань любимой мне». Странное дело, на следующий день вечером опять передавали армянский концерт. Зейнал Ханларова снова заливалась той же песенкой. «Многие встречались мне, но люблю я лишь Нуне, увели мою Нуне, одиноко, грустно мне». Зачитавшись, я поздно лёг спать, а наутро проснулся от звонка в дверь. «Неужто снова Хейрулла? – мелькнуло в голове. – Если он, скажу, что только-только пришёл». К счастью, это был Сиявуш. Я с радостью открыл дверь.
– Старик, ну ты и соня.
– А который час? – удивился я.
– Первый час, вот который. Есть у тебя выпить?
– Чего ты надумал с утра пораньше? Коньяку выпьешь?
– Неси. Видел последний номер «Литературного Азербайджана»?
– Нет. А что там?
– Подборка моих стихов с посвящением тебе.
– Спасибо! Жаль, я не читал.
– Я взял для тебя экземпляр, принесу.
Я приготовил кофе, поставил на стол початую бутылку коньяка.
– Одну рюмку, – сказал Сиявуш. – Больше не буду.
Мы выпили по одной.
– Старик, ты когда меня научишь кофе варить? У тебя всегда вкусный получается. В Ереване у писателя Ованеса Гукасяна дома тоже отменный кофе подавали. Варят в золе или в песке. Между прочим, я большой армянский цикл написал. Когда ездил на праздник переводчиков, был в Гарни, Гехарде, Звартноце. Впечатление потрясающее. Обо всём этом и написал. И о Комитасе задумал что-то вроде поэмы, не знаю только, получится ли. Послушай-ка, – что-то вспомнив, сказал Сиявуш. – У тебя что, телефон не работает?
– Работает. Просто я его отключил, чтобы не позвали выступать.
– Хотя бы мне сказал. А то я звоню, звоню… Весь вечер звонил. Видал, что сделал эта проститутка Катусев?
– Не видел, но слышал. Не надо было этого делать.
– На словах все люди одинаковы, различия между ними выявляют одни только поступки. На его совести, если только у такой бляди есть совесть, кровь невинных жертв.
– Каких жертв? – очнулся я.
– Говорят, в каком-то общежитии заваруха случилась, – уклончиво сказал Сиявуш. – Есть жертвы.
– Здесь, в Баку?
– Нет… В Сумгаите.
– Да что ты? – Я срочно включил телефон, набрал номер наших. Никто не отвечал. – Дома никого нет, – встревоженно сказал я. – Интересно, куда они пошли.
– Хочешь, съездим в Сумгаит? – внезапно предложил Сиявуш. – Есть у меня знакомый парень, Зульфугар Алиев, директор тамошнего музыкального училища, всё время приглашает.
– Поехали, – сказал я. – Слава богу, машина во дворе.
– Поедем не на твоей машине, – решительно сказал Сиявуш, встал, подошёл к телефону. – Подожди, надо позвонить. – Он набрал номер, немного подождал – Айдин, это Сиявуш. Скажи, пожалуйста, можем мы еще раз съездить в Сумгаит? Честно говоря, будь это возможно, я бы тебя не беспокоил. Спасибо. Улица Вагифа, 30. Отлично… Поедем на другой машине, – повернувшись ко мне, сообщил Сиявуш. – С минуты на минуту подъедет.
– Я знаю этого Айдина?
– Нет, мы познакомились недавно. Он написал книгу из жизни чекистов, я перевожу на русский. Выйти должна в Москве, стоит в тематическом плане, документальные рассказы и повесть. Он на высокой должности, но парень что надо.
Дожидаясь Айдина, мы выпили ещё по чашке кофе. Услыхав с улицы автомобильный гудок, поняли, это он.
– Приехал. Пошли.
Высокий, смуглолицый, с приятными чертами лица, Айдин быстро вышел из машины нам навстречу, мы познакомились. Усаживаясь в машину, я заметил у Айдина слева повыше пояса пистолет. За городом, после Баладжары, сразу за Хрдаланом и вплоть дотуда, где от шоссе Баку–Ростов дорога сворачивает вправо, к Сумгаиту, стояли воинские подразделения, танки и бронемашины, грузовики с кузовами, покрытыми брезентом цвета хаки, в которых у правого и левого борта сидели солдаты.
– Что это они здесь? – поинтересовался я. – Учения, что ли?
– Лео, – неожиданно приобняв меня за плечо, сказал Сиявуш изменившимся голосом, и по его тону я понял, что он скажет сейчас нечто тяжёлое и жестокое, буквально нутром это почувствовал, и по телу пробежала холодная дрожь. – В Сумгаите творятся скверные дела
– Что за скверные дела? – спросил я, не слыша собственного голоса.
– Там беспорядки. Есть жертвы. Но с твоими всё хорошо, – попытался утешить меня Сиявуш. Я не мог тебя найти… Думал, ты тоже в Сумгаите, доехал на такси до Джейранбатана, но дальше нас не пропустили, гражданские машины разворачивают обратно. Нашёл Айдина, поехал с ним. Его машину не останавливают. Хотел привезти твоих в город, но твоя мама не согласилась…
– Где они сейчас? – До меня не доходило то, что говорил Сиявуш. – Ты заходил к нашим?
Прежде мы с Сиявушем бывали у наших дома, он знал, что родители живут у горкома.
– Заходил, но… все армяне сейчас в пансионатах, а часть – в горкоме и напротив горкома, в клубе каучукового завода…
Мы въехали в город. Тут и там бросались в глаза разбитые машины, многие были сожжены, некоторые всё ещё дымились, рядом – поваленные, совершенно чёрные автобусы, возле автостанции лежали перевёрнутые ларьки и киоски с выбитыми стёклами.
Поехали по улице Мира; некоторые дома тоже зияли разбитыми окнами. На улице валялись остатки сожжённой мебели, телевизоры, обгорелые и дымящиеся матрасы, детские вещи, холодильники, судя по всему, выкинутые с верхних этажей.
– Это что же здесь творилось? – едва слышно выговорил я, до глубины души потрясённый.
Одна за другой проезжали бронемашины.
– Ума не приложу, как такое могло случиться, – наконец произнёс Айдин. Всю дорогу он молчал. – Первобытное варварство в конце двадцатого века, просто поверить невозможно.
На перекрёстке улиц Мира и Дружбы стояли бронемашины, а в глубине дворов, я видел это, толпа жгла груду вещей.
Свернув вправо, мы проехали мимо центрального почтамта, пересекли трамвайную линию и оказались на площади возле горкома, окружённой сотнями солдат и десятком бронемашин. Въезжать сюда посторонним автомобилям было запрещено, но Айдина никто не задержал.
– Ты, Лео, зайди в горком, а мы скоро подойдём, – сказал Сиявуш, когда машина притормозила перед горкомом.
Я вышел из машины, полагая, что родители, скорее всего, здесь, в горкоме.
Мне недоставало воздуха. Я вошёл внутрь и застыл у дверей; шум, гвалт, на полу, на каменной лестнице и на подоконниках расположились люди – раненные, избитые, сидя, полулёжа, полураздетые, многие в домашних шлёпанцах, кто-то босиком, в халатах и ночных рубашках, с окровавленными вздутыми лицами. Я долго простоял, оглушённый этим адом. Молоденькая девушка глухо рыдала, сотрясаясь всем телом. Медленно продвигаясь вперёд, я искал глазами своих. Кое-как пробираясь между сотнями людей, поднялся до четвёртого этажа. Но так и не нашёл их.
– Спуститесь на второй этаж, – посоветовала мне русская женщина с чёрными синяками на лице. – Там составлены списки, может, и найдёте по ним своих.
Кабинет первого секретаря горкома Джангира Муслимзаде тоже располагался на втором этаже. Приёмная была битком набита. Кто-то плакал, кто-то с трудом стоял на ногах – люди дожидались очереди. Я тоже занял очередь. Милиционеры у дверей кабинета требовали тишины, грозились вывести тех, кто шумит, из приёмной. Когда дверь открывалась, был виден длинный стол, во главе которого сидел председатель совета министров Азербайджана Гасан Сеидов, я знал его в лицо. Были в кабинете и другие.
– Из роддома не выкинули ни одного ребёнка, – объяснял кому-то по телефону Сеидов, – это были детские игрушки.
Попробуй пойми, какое касательство имели к роддому игрушки…
– Я этот город этими вот руками строил, – немного погодя сказал стоявший перед Сеидовым мужчина лет пятидесяти. – С семнадцати годков работаю, а сейчас мне пятьдесят два, вот и посчитайте – сколько. Выходит, тридцать пять лет. Тридцать пять лет я для вас дома строил, и за всё за это у меня к вам одна только просьба. Хочу на своей машине в Ставрополь уехать, от зверья подальше, к людям. Вот и всё, помогите уехать.
– Ты что, не мужчина? – Сеидов повысил голос. – Не в состоянии уехать на своей машине? Надо быть мужчиной. В Сумгаите двадцать тысяч армян, я что же, всех по одному буду сопровождать? Никакой помощи не будет, езжайте, как хотите.
– Ты не министр, ты пастух с гор! – выкрикнул мужщина и свалился без сознания на пол. Два милиционера не мешкая вбежали в кабинет, вынесли его в приёмную, оттуда в коридор. Через минуту-другую он пришел в себя, сел прямо на полу, прислонясь к стене, и, сдерживая рыдания, заплакал. Лицо было полностью истерзано, изуродовано, темные синяки кругами окружали веки, один глаз был почти не виден. лоб был рассечен в двух местах, на одежде и на голове черная засохшая кровь.
– Да это никак Бармен, – склонившись к нему и внимательно вглядевшись, удивился человек лет тридцати. – Точно, Бармен, Бармен Бедян. Мы работали вместе. Бармен, ты? – нагнувшись ещё ниже, спросил он.
– Я, кто ж ещё. – Бармен повернул на голос лицо в синяках; один глаз у него, скорее всего, не видел. – Это ты, что ли, Костя? – сказал он и разрыдался. – Видал, что с армянами сделали? – он покачал головой. – Нелюди, звери, дикие звери, хуже зверей. Что с нашим народом сотворили, трудовым злосчастным нашим народом – всех резали, как овец, бесчестили, отца, мать, сына, дочку. Иных заживо сожгли… Ты грузин, Костя, тебе-то, может, и не будет ничего, да жена у тебя армянка…
– Мне тоже худо, Бармен, погромы в городе продолжаются, милиция заодно с бандитами грабит и режет, армия не вмешивается, приказа, мол, нет.
– Когда всех вырежут, тогда и приказ будет, – сказал кто-то. – Всё это заранее спланировано и сделано с позволения Москвы и Баку. Я вырвался кое-как из рук сброда, унёс ноги, вижу – милицейская машина. Обрадовался, когда остановилась, и бегом к ней. Протянул руку к дверце, а она с места сорвалась. А сосед наш Вагиф и сестра его Сабиргюль орут из окна первого этажа: «Хватайте его, прикончите».
– А меня милиция схватила и швырнула толпе, – сказал Бармен. – С первого этажа я увидел, как сборище забежало во двор. Под нашей квартирой у нас было подвальное помещение, туда ведет дверца на полу. Я всех наших быстро спустил через эту дверцу, накрыл вход стареньким ковриком. И в этот момент, взломав входную дверь, ворвались они- человек 10-15, и коршуном налетели на меня…Прижав к стене прихожей, меня бешено избивали, но я не издавал ни звука. Больше всего я боялся, что сын услышит мой голос, не выдержит, выйдет и попадет в лапы этих зверей, этим самим поставит под угрозу жизнь остальных…Сжав зубы, я терпел и думал, что сейчас убьют. Я хотел только одно, что если убьют, то пусть это будет на улице, лишь бы наши ничего не услышали. Из-под страшных ударов этих извергов я кое как вылез во двор и убежал, унеся за собой эту стаю….Избитый, глаз кровью заплыл, бежал, а толпа улюлюкает: «Хватай армяшку-труса, бей!» Два мента меня поймали и со смехом отдали толпе. Я, наверно, там ведро крови потерял. Извергам показалось, готов, оставили меня, ушли. Мне помогла, хоть и с опаской, одна русская бабка. Встал я, дотащился до больницы, сколько ни упрашивал медсестру, чтобы позволила позвонить нашим, узнать, живы они, нет ли, – ни в какую. Не дала… Всё организовано.
– Вот именно, всё организовано, – подтвердил грузин Костя. – Ещё двадцать первого февраля мой приятель по работе Ильхам Гумматов сказал, мол, в конце месяца против армян большая демонстрация пройдёт. Они заранее готовились, у нас на заводе по особому распоряжению изготовили ножи, топоры, металлические прутья, в микрорайоны откуда-то привезли на самосвалах булыжники, тоннами раздавали бензин. Водители-азербайджанцы, когда проезжали мимо толпы, трижды сигналили и протягивали из кабины руку, дескать, свои. Мало того, вечерами все азербайджанцы не должны были гасить у себя дома свет. Это не доказательство, что всё расписано? Первую жертву я видел, – продолжал Костя. – Я на площади стоял. Выступала второй секретарь горкома Малак Байрамова. Не надо, говорит, армян резать, пусть уходят, а дома и имущество вам останется, только пусть они уберутся. А перед этим вылез один приезжий из Капана. Будто артист был, наподобие артиста наизусть шпарил. В Капане, говорит, армяне мать его убили и родителей жены, квартиры и всё, что у них было, отняли. Такой с продолговатым лицом, в чёрных очках, с маленькой бородкой, тоненькими усиками. В лайковом плаще. Потом, уже на следующий день, пришёл Муслимзаде. Снова выступал капанец, говорил то же самое. Разве что прибавил, мол, у азербайджанок было в Капане общежитие, туда будто бы ввалились армяне, насиловали женщин, вырезали у них груди. Под конец бросил клич: «Вышвырнем армян с азербайджанской земли! Слава Турции!». Турция-то тут при чём? Муслимзаде чуть ли не слово в слово повторил призывы Байрамовой, только добавил, что Горбачёв на стороне азербайджанцев. «Прошу вас как мусульманин, – говорит, – пожалуйста, разрешите армянам уйти из нашего города». Площадь ликовала, потому что раньше погромщики боялись властей, а тут ясно как день стало, что власть их поощряет и наказаний не последует. Ведь первый секретарь горкома не угрожает им, а наоборот, уговаривает. Оттого-то площадь и ликовала. Кто-то в толпе завопил: «Микаил Мехмед оглы Горбачёва эшг олсун!»*, Не знаю, с какой стати Муслимзаде заговорил о резне пятнадцатого года. Дескать, во время всех русско-турецких войн армяне неизменно предавали турок, переходили на сторону русских, им помогало множество
вооружённых отрядов. И за всё это, говорит, в пятнадцатом году их настигла заслуженная кара. Муслимзаде спустился с трибуны, взял азербайджанский флаг и пошёл во главе толпы. Как раз там, у выхода с площади, погиб первый армянин. Их было двое – парнишка лет восемнадцати–двадцати убежал в сторону четвёртого участка, к улице Нариманова, ну а пожилой остался лежать на земле.
Костя немного помолчал и заговорил снова:
– Того капанца я видел ещё раз. Оказалось, никакой он не капанец, а
курд родом из Армении, директор средней школы, звать его Хыдыр Алоев. Погромщики во главе с ним громили ларьки, рушили магазины, врывались в дома, убивали армян. Я позвонил в горком. «Что делать?» – спрашиваю. Они решили, я армянин. «Уезжайте из города», – говорят.«Как уехать, – говорю, – помогите». «Как хотите, – говорят, – так и уезжайте. И положите трубку, не отравляйте воздух». Свою семью я к товарищу отвёл, к Адилу Ализаде, у него дома пряталась ещё одна армянская семья. Позже про это то ли пронюхали, то ли просто заподозрили. Смотри, пригрозили Адилу, голову оторвём. Короче, мы с ним вооружились подручными средствами, пошли на завод взять отгул. Видим, у старой железнодорожной станции два сожжённых «Икаруса», сожжённый микроавтобус, а потом увидели «Жигули» – машина выгорела изнутри и снаружи, а в кабине сгорел человек. Чуть подальше – опять сгоревший «Жигуль».
– Я своими глазами видел во дворе «скорой помощи», – сказал Бармен. – Семья собиралась бежать на машине, их схватили и сожгли. Машина, я видел, была вся чёрная, не разберёшь, «Москвич» или «Жигули», а внутри пять обгорелых трупов. Своими глазами видел.
– Возвращались мы с завода, и зашли к знакомым, – продолжил Костя. – Одного зовут Игорь, другого Руслан. Руслан и говорит, что в клубе каучукового завода напротив горкома – эвакуационный пункт, всех армян туда ведут. Вчетвером привели мы в этот эвакопункт две семьи – мою и соседей Адила. На обратном пути в первом микрорайоне видим – два солдата ведут к эвакопункту девочку. До смерти мне этого не забыть. Девчушке лет двенадцать или тринадцать, ноги и колени сплошь в крови, сознание в ней
*Слава Микаилу Мехмет оглы Горбачеву!( азерб.).
едва теплится. Один солдат ведёт её под руку, а следом, шагах в двадцати, бредёт женщина лет пятидесяти, истерически плачет, причитает и рвёт на себе волосы. В буквальном смысле рвёт, потому как те летят с неё клоками
– Солдаты хватали погромщиков и сдавали милиции, – сказал Бармен, – а та их отпускала.
Кто-то слабо потянул меня за рукав, я мигом обернулся. Это был Сиявуш. «Пойдём», – позвал он взглядом. Я спустился за ним и на первом этаже увидел маму – жалкую, сразу постаревшую, с абсолютно седыми волосами. Вид у неё был измученный, отсутствующий, глаза покраснели. У меня пересохло во рту, ноги подкосились, и я не помню, как подошёл к маме, как обнял её. Маму трясло в моих руках, она уткнулась лицом мне в грудь и плакала, не в силах вымолвить ни слова. Мне не терпелось узнать об отце – где он?
– Папы нет, Лео, нету папы, – внезапно произнесла она с исказившимся лицом сквозь рыданья. – Сгорел в машине, сожгли твоего папу… Папы нету, мы его похоронили…- Я прижал маму к груди и не смог сдержать слёз, горло перехватило удушьем. Мы долго стояли так, обнявшись, мать и сын. Наконец Сиявуш взял меня под руку и шепнул: «Будь мужчиной, Лео, ты должен поддержать мать».
Мы вышли из горкома.
Площадь по-прежнему была полна солдат и бронетехники.
– Если можно, зайдёмте на минутку домой, – тихо сказала мама, не подымая головы. По распоряжению Айдина к нам приставили нескольких милиционеров. Сиявуш пошёл с нами. Все окна были разбиты, наш диван, на котором отец любил полежать с книгой в руках, обгорелый валялся во дворе. Здесь же были разбросаны книги и мебель, по большей части сожжённая. Мы поднялись в дом. Дверь выломали, всё внутри порушили, раскурочили. Там и сям – осколки посуды, с провода свисала разбитая люстра. Телевизора, маминой швейной машинки, магнитофона, напольного и настенного ковров ручной работы не было. Всё пропало.
– Что понаделали, – расплакалась мама. – Что мы тридцать лет наживали, за тридцать минут изничтожили, по ветру пустили. Книги сожгли, тетради сожгли. – Мама нагнулась и со слезами подняла с пола листок бумаги. – Гляди, отцовская рука, его почерк. Он же несколько тетрадей исписал, всё загубили, нету.
Я взял у мамы листок. Это было стихотворение. При виде отцовской рукописи я снова прослезился. И затуманенными глазами прочёл отцовские стихи:
Эй, Кыгхнахач,
мой рай земной,
мой Кыгхнахач,
Мой дивный сон,
мой детский смех,
мой сладкий плач!
Трава шуршит,
ручей бежит,
пчела жужжит.
В земном раю,
в родном краю
так чудно жить.
Далёкий смех,
звон бубенцов,
собачий лай
Зовут меня:
вернись, наш сын,
в родимый край…
Я долго стоял и молча глотал слёзы. Меня душила судорога жестокой утраты и отчаяния. Листок со стихами я положил в карман; это всё, что осталось мне в память об отце.
Я с горечью вспомнил фразу Армена про выпущенных из тюрем уголовников и его странный тост в ресторане: «Пусть люди не останутся без крыши над головой, и пусть не дано будет услышать плач и причитания по безвременным утратам».
– Пошли, – сказал я, обнимая маму за плечи. В дверях мы последний раз оглянулись на свой разрушенный очаг. Мама горестно покачала головой и, не в силах себя сдержать, опять расплакалась.
– Сиявуш, – сказал я, – спроси Айдина, нельзя ли заехать на кладбище.
– Конечно же, заедем, – сказал Сиявуш. – О чём вообще речь?
– Муж умер, стало быть, умерла моя половинка, – повторила мама сквозь плач. – Навестим его, очень может быть, что больше не получится.
Милиционеры доехали на своей машине до кладбища.
Я упал на свежую могилу отца и горько заплакал. Мама всхлипывала, говорила, что теперь её жизнь потеряла смысл, упрекала отца, зачем он её не послушал и вышел из дому, если бы, говорила, послушался, может, и ему б удалось спастись.
– Ох, не послушал он меня, не послушал, – с неизбывной горечью повторяла мама; она чуть-чуть успокоилась, когда машина выехала на трассу и понеслась к Баку. – Ведь видел же он, что творится на площади. Там толпа с флагами в руках орала: «Смерть армянам». Впереди всех шёл человек лет сорока – сорока пяти в сером пальто, что-то говорил, и все, в основном молодые парни, вопили следом: «Не отдадим Карабах», «Режьте армян», «Да здравствует Турция». Вопили, орали, потом закричали «ура». А люди всё подходили и подходили – с заводов, фабрик, училищ; и женщины в толпе тоже были. Одна из них, артистка здешнего театра, это мы потом узнали, так вот, она заговорила, вернее сказать, исходила криком: наших там раздевают, орала, насилуют, убивают, а вы не мужчины, наших убивают, а вы тут отмалчиваетесь. Словом, заводили молодёжь, науськивали на нас, а я только и думаю: только бы сынок мой, мой Лео, не приехал из Баку, хоть он и говорил, что на этой неделе не приедет, я всё равно боялась – услышит и приедет. Словом, братец Сиявуш, людей прибывало и прибывало, а я мечусь в испуге туда-сюда. Вышла на балкон, а на другом балконе наша соседка азербайджанка стоит. Я спрашивают: «Это что такое, что стряслось?», а она в ответ: «Я и сама не пойму». И лица на нет, извелась вроде меня. В руках у них, у этих парней, что-то блестящее было, у всех одинаковое, одного размера, мы потом уж узнали – железные прутья толщиной примерно с палец, отточенные, сделанные по спецзаказу; железяки эти были почти у каждого. Шли они, размахивали прутьями и орали. Тот, что шёл впереди, вроде как их главарь, тоже был с прутом.. Через десять–пятнадцать минут является муж. Едва вошёл, я говорю: «Боюсь я, убивать нас будут». Он и говорит: «Зря боишься. Это же пацаны из профтехучилищ, нечего тут бояться». Не стал обедать, взял книжку, лёг на диван. На тот самый, что во двор сбросили. В это время по телевизору передали, что в Карабахе, под Аскераном, армяне убили двух азербайджанцев, одному двадцать два года, другому шестнадцать. Муж разнервничался, книжку в сторону. Сообразил, видно, что передача эта неспроста, не просто так. Мне не говорит ни слова, но я же вижу, побледнел. Совсем я потерялась. «Убьют нас», – говорю, а он знай твердит: «Ничего не будет, не бойся». После той передачи бабы на площади завизжали. Не знаю, что именно, муж окно закрыл. И ничего больше не было слышно. Позже всё вроде б утихомирилось, но заснуть я не могла. До трёх ночи стояла у окна, чего только не передумала. Телефоны были отключены, позвонить никуда не позвонишь. – Мама перевела дух. Сиявуш молча слушал, куря сигарету за сигаретой, выпуская дым в приспущенное боковое стекло. Я неотрывно думал об отце, прикрыв глаза, видел его – легковерного, с незлобивой улыбкой, – и сердце заходилось от тоски и бессилия.
– Назавтра, братец Сиявуш, муж встал, выпил чаю и решил выйти. Я ему: «С ума сошёл, сиди дома». Не послушался. «Дело есть, – говорит, – надо съездить». «Не будь упрямцем, – говорю, – хоть один-единственный раз меня послушай, не выводи машину из гаража, не езжай на машине». А он говорит: «Запри дверь». И на лестнице тоже что-то сказал, то ли трусихой обозвал, то ли ещё что, не расслышала. И ушёл. Ушёл и ушёл. – Мама всхлипнула. – До часу дня было вроде бы тихо, соседка сказала, что вчера вечером многие дома разгромили, сейчас, мол, погромы продолжаются. Сказала, что на автостанции жгут машины. Я спрашиваю: «И нашу тоже?» «Нет, нет, нет, – говорит, – одни только государственные, автобусы». Муж между тем не идёт и не идёт. Уже пять часов, уже шесть. Пробило семь, а его нету. Ну, думаю, убили. По городу горели шины, всё заволокло чёрным дымом, небо и то почернело. Стою на балконе, трясусь, дрожу всем телом. Господи, думаю, убили мужа, точно убили. Не помню, который был час, в доме напротив со второго этажа всё кряду в окно выбрасывают. А внизу всё поджигают. А милиция, человек десять, может, и больше, смотрят и посмеиваются. И странное дело. Все эти погромщики как на подбор одеты в чёрное. Вся одежда чёрная или тёмная. Может, для того, чтобы не обознаться, не перепутать своих с чужими. Или чтоб их воспринимали как чёрную, зловещую массу и нельзя было выделить и запомнить каждого по отдельности, не знаю. Швырнули вниз телевизор, он, как бомба, взорвался. Наша соседка с третьего этажа Ханум Исмайлова вышла на балкон и кричит: «Вы что творите, зачем вещи жжёте? Люди каждую копейку ради них экономили!» А снизу ей кричат: «Скажи-ка лучше, там у вас эти есть». Это они нас, армян, подразумевали. «Нет, нет, нету!» Соседка бегом ко мне, говорит: «Дай мне ключи, сама ступай к нам, если придут, скажу – квартира сестры, они, скажу, в гости ушли». Дала я ей ключи, пошла к ней. А тем временем во дворе у нас двух братьев убили, вместе. Лео знает их, Алик и Валера. Не выдержала я, спустилась во двор, вижу – соседский сын, азербайджанец. «Пойдём, – говорю, – сходим в гараж, поглядим, может, муж мёртвый там лежит». Не пустил он меня, пошёл сам, вернулся, говорит: «Нету там никого, гараж заперт. Алика, – говорит, – убили, а Валера хрипит». Хорошие были мальчики, без отца выросли. Хотел он подойти, Валере помочь, они дружили, да те не пустили. А милиция смотрит и гогочет. Я поднялась к Ханум. А тут головорезы ввалились в наш подъезд. Жила у нас в подъезде Лена Аванесян, дверь у неё вышибли, слышим, как посуду бьют, вопли, крики, точно весь дом ходуном ходит. Лену и мужа её, Сашика, выволокли на улицу, били дубинками, железными теми прутьями. Потом слышим, этажом ниже погром, девушка Ира, у неё день рождения был, вся растрёпанная, страшная, выскакивает на балкон с ножом в руке. «Не подходи, – кричит кому-то, – не подходи». А народ стоит, как ни в чём не бывало, смотрит, будто кино какое, и никто из мужиков не скажет: «Вы что делаете, поимейте совесть, не звери же вы». Потом узнали, что Иру и двух её сестёр человек двадцать изнасиловали, вытащили голых на улицу. Гости у них были из Баку, не смогли вернуться, потому что автостанция уже не работала. Гостью, Аиду, тоже изнасиловали, пырнули ножом в живот, отрезали ступни, вырвали с мясом уши. И всё это на глазах у отца, и среди них были мужчины лет по пятьдесят, и в том числе директор двадцать пятой школы Хыдыр Алоев. Отца Аиды не убили, сказали: «С него и этого хватит, пускай мучается». Остальных спасли военные. Один солдатик, увидав, в каком люди состоянии, упал в обморок. – Мама заплакала. У меня тоже текли слёзы бессилия и жалости.
– Больше не рассказывай, мам, хватит, – попросил я. Но она меня не услышала и продолжила:
– Храни Бог Ханумку, Ханум Исмаилову. Из сорок шестой квартиры. Соседи, здоровенные мужики, на помощь не пришли, не помогли. А вот одинокая женщина тридцати пяти лет готова была собой пожертвовать, лишь бы спасти нас. С неё тоже золотую вещицу сняли, обручальное кольцо. Ударили несколько раз. И ножом угрожали. Мы это слышали. Ну а Аванесянов и Григорянов она спрятала в сорок первой квартире на втором этаже, в квартире Светы Мамедовой. Светы в тот день дома не было, с мужем они в Ленкорань на похороны уехали, а ключ оставила Ханумке, чтобы та цветы полила, ну, Ханумка и воспользовалась. Избитых армян из квартир и со двора к себе уводила с риском для жизни. Сколько раз бандиты приходили, один ударил Ханумку по лицу, да не на ту напали. Ханумка надрезала жилу, крови хотите, говорит, вот она, моя кровь. Ещё ей Игорь Агаев помог, Лео знает его, в одной школе учились. А Габриэлянов спас начальник одной из их дочек, Мамедов, увёл их в клуб. Уршан Мамедов, он из Ленкорани. А перед тем их, изнасилованных зверски, в своих квартирах соседи укрыли – Кярамов, Салима и Сабир. А вот во втором доме Мелкумянов никто не защитил, шесть душ, один-то гость, убили, да как убили, как истязали: бросили живыми в огонь, их сын Эдик, славный, добрый мальчик, хотел было вылезть из огня, так его железными прутьями снова туда затолкали. Его сестру Ирину, настоящую красавицу, здесь рядом, в аптеке работала, её тоже сожгли. Бедная девочка по балконам перебралась к соседям, а те – Севиль и два её сына, малолетки, выпихнули её из квартиры, бросили в пасть этим волкам озверелым. А брат этой Севили кричал с балкона: «Избить её мало, прикончите, сожгите!». Растерзали бедняжку, живьём бросили в огонь, зажарили, сожрали. До этого они оказывали сопротивление теми предметами, что было у них дома — топором, ножом, ножками от стульев, когда свора зверей в пятнадцать-двадцать человек, взломала дверь и ворвалась внутрь. И какое только безобразие не сотворили они с ними. Чудом спасшаяся их невестка Карине, плача, рассказывала в клубе, этот проклятый Хыдыр Алоев, говорила, крутя в руках заточенным металлическим прутом, сказал ее свекрови Раисе: «Одного из твоих сыновей дарю тебе, выбирай, кого будем убивать»… Невестка говорит, свекровь бледная, язык отнялся, как рыба из воды — рот открывался, закрывался, а голоса не было слышно По его указке, прямо перед глазами матери, нанесли несколько ударов ножом истерзанных сыновей. Потерявшую сознание мать и остальных, избивая, выволокли во двор, сверху, окаменев, мы видели все это, вся семья лежала во дворе в нескольких метрах друг от друга, и отребье десяти двенадцати лет безжалостно избивали их лопатами и заточенными прутьями, пока тех бросили в огонь. Шесть человек из одной семьи, а соседи глядят из окон и с балконов, смеются себе. Так оно было. Мы всё это, , как было, из-за шторы видели. Тот Хыдыр Алоев, из двадцать пятой школы, вышел на их балкон и оттуда, как Ленин, рукой вперёд орал: «Гырын, гырын!»* Такой вот директор, учитель. Зато соседи из дома напротив, из двенадцатиэтажки, спустились вниз и не пустили погромщиков к себе в подъезд. И две армянские семьи тем самым спасли. Одна молодая азербайджанка, не знаю, как её звать, из соседних домов так же себя повела. Сперва из окна погромщиков обругала, потом спустилась, встала в дверях подъезда и говорит: «Вы сюда только через мой труп войдёте». А в том подъезде тоже две армянские семьи жили. Спасибо тебе, незнакомая девушка, и тебе, Ханум, спасибо, мы вам жизнью обязаны. Ханум с нами до последнего сидела, всех спасла, накормила, в эвакопункт отправила. Ну а до этого и нашу квартиру подожгли, все книги, две тысячи штук, во дворе сожгли. У них были
—————————————————
*Гырын, гырын ( азерб.).-Режьте, режьте.
списки армян, по этим спискам они и ломились в наши квартиры. Видели бы вы как убили Эмму Григорян, как измывались над ней. Шестьдесят лет ей, раздели догола, бьют в спину, во двор гонят, а она руками груди прикрывает. Уборщица была, чем она провинилась? А Герсилия Мовсесова! Боже мой, боже, что с бедной женщиной сделали! К родственникам из Баку в гости приехала, старуха, восемьдесят шесть лет. Врач в больнице у неё на теле тридцать шесть ножевых ударов насчитал. Зверь зверю такое сделает? Зверь-то не сделает, а человек сделал. Советский человек.
Мама умолкла. Сиявуш обернулся, взял меня за руку – дескать, мужайся. В его глазах я заметил слёзы.
– Бог создал человека по своему образу, – заговорила мама. – Получается, когда они убивают людей и бессовестно режут их, они убивают и режут Бога. Это как?
Помолчав, она продолжила; говорила тяжело, словно бы сама с собой
– Странное дело, все убитые и пострадавшие – армяне. Одни только армяне – либо те, кто наподобие нас приехал сюда по вербовке, либо невинные их дети. Что это такое, мне не понятно. В семь утра пришли в клуб три милиционера с медсестрой из больницы скорой помощи. Сколько лет я в этой больнице работала, сестру привели, чтоб отыскала меня среди пяти тысяч душ. В клубе на четыреста человек, вы сами видели, пять тысяч – старые, малые, избитые, раненые, лежат вповалку – на полу, на скамьях и под скамьями. Ни воды нету, ни света, антисанитария страшная. Три ряда солдат с танками нас защищают, чтобы погромщики не ворвались. Ну, это вы тоже видели. Увезли меня в больницу. По дороге вижу, разрушенное жильё спешно ремонтируют. Привезли меня в больницу, я и поняла сразу, что нету больше моего мужа. «Сара-баджи, – спрашиваю медсестру, – муж мой среди мёртвых?» «Нет, – мотает головой, – что ты такое говоришь?» Она мужа знала, конечно, сколько раз он помогал больницу ремонтировать. Обращаюсь к главврачу: «Скажи, доктор, очень тебя прошу, муж мой мёртв?» «Что ты, – говорит, – завелась, мёртвый да мёртвый». «Умоляю, – говорю, – скажи правду». Он и сказал. Заплакала я, запричитала, закричала прямо у него в кабинете. Он и говорит: «Ступай, отдохни немного». Потом отвели меня в морг. Там сожжённые были, женщины среди них и один ребёнок. Ему лет, наверно, десять было, ребёнку этому. Я как увидала всё это – будто с ума сошла. Не могу, говорю, глядеть, сил моих нету. Следователь спрашивает: «Есть у вашего мужа особые приметы?». Говорю, нет у него половины большого пальца на руке. На работе покалечился. Дайте, говорю, одежду, или обувь, или носки, я узнаю. Принесли рукав от рубашки и свитер, который на нём был… обгоревший вконец… Я, как увидала, запричитала: вай, звери, сожгли. Кричала я, плакала, не помню, на пол ли упала, сидела ли… Следователь и говорит: «Ну ладно, ладно, значит, опознали, да и большой палец руки обрублен». А главврач говорит, мол, надо бы пораньше похоронить, ещё не известно, что дальше будет. Я говорю: как же так, сына здесь нет, одна дочка в Чаренцаване, другая в Ставрополе, как же так? У него сёстры есть, брат, отец с матерью. В общем, такого заслуженного человека без всяких почестей схоронили. Боялись, и на кладбище тоже могут напасть, схоронили по-быстрому, врач очень помог, храни Бог его деток. И вас тоже Бог храни, в такой тяжкий день дважды сюда приехали, сынка моего поддержали. До земли вам кланяюсь.
– А дядя Аббас не появился? – спросил я после долгого молчания.
– Дядя Аббас в больнице лежит, в реанимации. В первый же вечер у ресторана «Бахар» толпа напала на троллейбус, требовала, чтоб армяне вышли. Он ввязался в драку, защищал армян, его несколько раз железным прутом ударили, два дня в сознание не приходил. И руку тоже сломали. Да разве б он отца твоего бросил одного? Так вот оно – хорошие страдают, мерзавцы пользуются. Бог слепой, не видит, кто да что, чтобы людям по делам их воздать, хорошим – хорошее, плохим – плохое. Да мы-то видим, что ровно наоборот он делает.
– Прими мои соболезнования, Лео, – сказал на прощание Сиявуш. – И знай, что это чудовищное злодеяние совершил не азербайджанский народ, а азербайджанская партийно-правительственная мафия с опорой на отребье. За спиной у этой националистической партийной мафии – центральная мафия, всесоюзная. Судя по всем признакам, эта резня тщательно спланирована. – Сиявуш тяжело вздохнул. – Именно так, мафия организовала геноцид с благословения кремлёвских противников перестройки и гласности. Москва не решит Карабахский вопрос, – продолжал Сиявуш, – Кремль создаёт точки межнационального напряжения не во имя и не против какой-либо республики, а чтобы сохранить империю. И знаешь, Лео, что для нас ужасней всего? – снова вздохнул он. – Не знаю, думал ли ты над этим, а я думал, и много. Для нас ужасней всего то, что на волне националистических и шовинистических настроений придёт новое поколение и не узнает, не узнает никогда, что прежде них были люди, и немало людей, для которых не существовало рода-племени, национальности и всякого такого, они были выше этого, новое поколение не узнает, как мы были спаяны друг с другом и как друг друга любили. Вот что страшней всего. – Он поглядел на меня с сочувствием и грустью. – Прошу тебя, ещё раз прими мои соболезнования. Я тебе позвоню.
*******
Мама не хотела оставаться в Баку.
– Нет, я тут не останусь, не могу, – сказала она. – Отправь меня к сёстрам, в Ставрополь или Чаренцаван. А Сумгаит для меня больше не существует.
Я попытался дозвониться до Чаренцавана, ничего не получилось. Зато со Ставрополем связался без каких-либо помех. Сестра долго плакала, мне никак не удавалось утешить её. Наконец я передал трубку маме. Поначалу она говорила спокойно, а дальше не выдержала, принялась плакать и, плача и всхлипывая, поведала о трагической кончине отца. «Нету мне больше жизни, – причитала она. – Раз отца вашего нет, и мне жить ни к чему». В конце концов я дозвонился и до Чаренцавана, но довольно поздно, чуть ли не в двенадцать ночи.
Утром позвонил главный, выразил соболезнование, сказал, что до крайности расстроен. А позже поинтересовался, не направляюсь ли я куда-нибудь.
– Да нет, я дома.
Он пришёл с Лоранной и Ариной. Вид у всех троих был подавленный. Главный был уже без повязки, под глазом красовался крупный отёк. Обнял меня, чуть изменившимся голосом сказал: «Крепись». Лоранна слабо пожала мне руку, тихо сказала: «Соболезную», тогда как Арина стояла с растерянным видом в прихожей и смотрела перед собой, будто не решаясь пройти в комнату.
– Проходи, Арина, что ты встала, – сказал я, пытаясь улыбнуться, и протянул ей руку. Она пожала её своими холодными пальчиками и шагнула в комнату. В её чёрных искрящихся глазах блестели слёзы, и я всем сердцем ощутил её самое глубокое сочувствие и стремление разделить моё горе. Может быть, оттого, что Арина в раннем детстве лишилась матери и знала, каково это – терять родителя.
Они выразили соболезнование маме.
– Для меня Сумгаита больше не существует, – повторила мама. – Этот город осквернён кровью армян. Кровью безвинных людей.
– Неужели всё это было организовано? – просто так спросил главный.
– Ещё как организовано, – спокойно сказала мама. – Взбудоражили народ обманными слухами, вывели его на улицы. Само собой, организовано. Заранее всё спланировали, а мы и не подозревали. Всех армян отправляли с работы по домам. А для чего? Зачем отключили телефоны? Откуда взялись у погромщиков списки армян? Почему милиция и скорая помощь не отзывались на наши вызовы? Бронемашины кружили по городу, в ста метрах от них убивали людей, а военные не вмешивались, приказа, видите ли, не было. С чего б это? Наверно, проведут следствие, выяснят правду, так это не останется…
– Всё-таки тяжело, страшно тяжело, что у нас в стране, где дружбу народов возвели в ранг абсолютной святыни, человека можно средь бела дня убить за то, что он другой национальности, – со вздохом сказал главный. – Сумгаит отбросил нас на тысячу лет от цивилизации к дикости.
– Тысячу лет назад людей поджаривали, пожирали? – наивно спросила мама, и главный не нашёлся с ответом.
– По крайней мере были среди азербайджанцев такие, кто сочувствовал? – спросила Лоранна. –Помогали хоть чем-то?
– Были, конечно, были, помогали, – ответила мама. – Лезгины, талишы очень даже помогали Не то сколько б ещё народу погибло, страх. И всё же мало было таких. Основная-то масса была на стороне погромщиков, убивала с ними и грабила либо стояла на своих балконах и в окнах, для них это вроде как бесплатный театр был, смотрели, как жгут людей. Господь, он должен бы вложить совесть в человека-зверя, а бедолаге она к чему? Как это Господь смотрит на такие ужасы и терпит? Эх, а может, и впрямь его нету, может, и это враньё… Ой, чего это я расселась…
Мама кинулась на кухню, накрыла на стол. Лоранна с Ариной тут же взялись ей помогать.
– Держись, брат, это жизнь, – сказал главный. – Все наши хотели прийти – Миша Гаджиян, Нора, Мнацакан, Боджикян, Ахумян, Юрий Погосян, остальные… Но я решил, это неудобно… – Он помолчал. – Я ведь тоже сызмала родителя потерял. Эх, сколько лет уже прошло, никак не позабуду. Родителей не позабудешь.
Мы долго молчали вдвоём, и главный сказал:
– Твоя мать, Лео, надеется, что проведут следствие, докопаются до правды. Она верит, что так и будет. А вот я не верю. Не будет этого. Есть в Дашкесанском районе село Бананц, в нём две тысячи жителей. Решили там поставить памятник односельчанам, погибшим на Великой Отечественной войне. Там погибло больше народу, чем во всех азербайджанских деревнях района, вместе взятых. Короче, памятник уничтожили за одну ночь, и возглавляли это безобразие руководство района и первый замминистра культуры Теймур Сулейманович Алиев. Кто-то понёс ответственность за снесённый памятник? Наоборот, на этой почве произошла драка, и десятки молодых армян бросили в тюрьму. То же случилось и в моём родном Шамхорском районе, в селе Чардахлу с его двухтысячелетней историей, где живёт свыше трёх тысяч армян. Том самом селе, которое дало двух маршалов – Баграмяна и Бабаджаняна, десятки генералов и героев Советского Союза. Из тысячи двухсот пятидесяти его жителей, ушедших на войну, четыреста пятьдесят два человека не вернулись. Кто за это ответил? Никто. Первый секретарь райкома Асадов стал героем соцтруда и пошёл на повышение. Сейчас он заведует отделом в ЦК и грозит Карабаху карами. Ходят слухи, будто на днях его назначат министром внутренних дел. Что ни год у Шаумянского района урезают земельные угодья и передают азербайджанским районам, нанося тем самым сокрушительный удар по экономике армянских хозяйств. Родине адмирала флота Исакова, троих Героев Советского Союза село Геташену, который в целом отправил на фронт более полутара тысяч своих сыновей, из которых больше половины не вернулись домой, принадлежало много равнинных земель, а на них – деревня Чалаберд, я бывал там раза два, райские места. Недавно её самоуправно присоединили к району Касума Исмайлинского. Кого призвали к ответу за самоуправство? Снова никого. Всю правду о сумгаитской резне не раскроют никогда. Чтобы прояснить истину, нужно первым долгом понять, кому на руку эта резня. В Сумгаите случился настоящий геноцид – тяжелейшее преступление против человечности. Но за этим кроется, Лео, кое-что ещё, не менее страшное. Мне кажется, перед нами только видимая часть исполинского айсберга, политическая часть – внушить армянам ужас, сковать их волю перспективой новых кровавых злодеяний, вынудить армянский народ отступить от Карабахского движения. Но, повторяю, это только видимая часть айсберга.
Главный многозначительно улыбнулся.
– А вот что имеется на невидимой его части. На мой взгляд, запомни, это акция, заранее подготовленная Горбачёвым и его окружением, Лигачёвым, Крючковым, Язовым, Пуго, Шаталиным и прочими лукьяновыми. Дальнейшие события, не сомневаюсь, это лишь подтвердят. В сущности, Карабах – удобное яблоко раздора, чтобы столкнуть лбами два соседних народа. В пятом году точно таким же способом действовал Николай Второй. Ничего удивительного в этом нет. В одном из своих писем Левон Шант отмечает, что в политике сплетаются ложь, обман, мошенничество. Так оно и есть. Политика – грязная штука, политики – люди без стыда и совести. Сталин – революционный деятель и при этом агент царской и турецкой охранки, под именем Бериашвили, два года тайно жил в Турции. Берия – из активнейших членов партии «Мусават», участвовал в расстреле двадцати шести бакинских комиссаров в Ахча-Куйме. Москва прекрасно всё это знала – и ничего. Словом, очень возможно, что Горбачёв под покровительством своих отнюдь не бескорыстных западных хозяев, особенно американских, преследует дальнюю цель – разрушить и расчленить могущественную советскую державу. Ты с этой точкой зрения не согласен? Два месяца назад сюда прибыла из Москвы следственная группа, возглавляемая помощником Генерального прокурора по особым поручениям Аслахановым, чтобы разобраться в деятельности Гейдара Алиева: массовые приписки, необоснованные тюремные заключения, убийства, в том числе и первого секретаря Кюрдамирского райкома Мамедова, многообразные государственного масштаба фальсификации, вопиющего уровня коррупция и прочее. Понятно, дело касается периода, когда Алиев руководил Азербайджанской компартией, был руководителем республики. Три гостиницы – «Азербайджан», «Апшерон», «Южная» – заполнены московскими следователями. Словом, азербайджанская разновидность узбекской следственной группы Гдляна и Иванова. Впрочем, если в Узбекистане хищения исчислялись миллионами, то здесь речь идёт о миллиардах. Десятками, если не сотнями полетят головы, и какие головы! Тюрьмы набьют теми, кто долгие годы безнаказанно грабил республику да и сейчас продолжает грабить. А не организовано ли всё это, чтобы сорвать, провалить расследование событий в Сумгаите? На митингах уже звучат категорические требования – немедленно удалить из Азербайджана группы следователей, поскольку их присутствие, видите ли, дезорганизует обстановку в республике. Здорово, а? Другая точка зрения. Ты ведь знаешь, Гейдар Алиев не из тех, кто способен простить виновников своего политического поражения. И в этом ряду Горбачёв – его враг номер один. Потому как именно Горбачёв с позором изгнал его из политбюро, вследствие чего Алиев перенёс тяжёлый инфаркт. Именно подвластная Горбачёву союзная пресса, включая «Правду», не раз писала, будто в 41-м году лишь из-за поддельных справок о болезни Алиев избежал фронта. Простит Алиев такое? Да никогда! Вместе с единомышленниками в госбезопасности он и организовал эти беспорядки – во-первых, чтобы скинуть Горбачёва, ну а во-вторых, чтобы проложить себе дорогу к возвращению во власть. Я слышал от верных людей, они утверждают – ещё до событий в Сумгаите три члена правления народного фронта, Эльчибей, Неймат Панахов и Этибар Мамедов, отправились в Москву для встречи с Алиевым. Учти, без его ведома ничего не делается, всё это устроено для того, чтоб он вернулся. И он ещё вернётся в Баку, Лео, попомни моё слово, вернётся, и триумфальное его возвращение начнётся с родного Нахичевана.
Сослуживцы пробыли у меня довольно долго. Я вышел проводить их, Лоранна тихонько сказала:
– Приходила Рена, спрашивала тебя. Твой телефон, говорит, не отвечает. У тебя что, телефон не работает?
– Уже работает, – ответил я.
– Я сказала ей, что твой отец убит. Узнала это от Сиявуша. Рена сильно побледнела, Лео, смотрела на меня как-то рассеянно, словно ничего не понимает.
-Она плакала?
-Да…откуда ты узнал?
-У меня душа болела.
Лоранна взглянула на меня, покачала головой.
— Не представляю, что с вами после всего этого станется.
Мы помолчали.
– Прости, Лео, я предчувствую, что тебе предстоят очень и очень трудные дни, – наконец нарушила затянувшуюся паузу Лоранна; голос её был полон отчаяния. – Я готова низко поклониться тебе за эти неизбежные муки.
– Послушай, Лоранна, – почему-то рассердился я, – ты не старец Зосима и я не Митя Карамазов.
– А как насчёт Сонечки Мармеладовой? – кокетливо спросила она.
– И не Сонечка Мармеладова.
– Но ведь она же предчувствовала трагедию Раскольникова.
– Сонечка была человеком не от мира сего, иначе не отправилась бы добровольно в Сибирь, чтобы долгих восемь лет делить с Раскольниковым его муки.
– Увы, мне не выпало разделить с тобой твои муки, – с горечью взглянула на меня Лоранна. – Но ты знаешь, я готова с величайшей радостью помочь тебе. Вот почему мне бы хотелось – я хорошо тебя знаю, понимаю, что говорю вещи совершенно несбыточные, – но, повторяю, мне бы хотелось, чтобы ты оставил свою азербайджанку. Ты ведь и сам видишь, какая пропасть образуется между двумя нашими народами, как день ото дня и час за часом накаляется атмосфера. Неужели тебе так трудно её оставить? – Лоранна посмотрела мне прямо в глаза.
– Оставить трудно, забыть невозможно. Ромео сказал бы: любимая моя столь совершенна, путь укажи, как мне забыть её.
Наморщив лоб, Лоранна не то грустно, не то снисходительно смотрела мне в глаза. Вообще-то взгляд у неё был довольно странный – она щурилась так, словно читает в твоих глазах строку, набранную мелко-мелко, петитом. С минуту она колебалась, точно взвешивала свои слова, и сказала с безоглядной нежностью:
– Как указать мне путь тебе, любимый? Разве ты не видишь организованный характер и цель того, что творится? Раскручивая интригу, нас подталкивают к войне. Ты армянин, она азербайджанка, ваша любовь обречена, какой же путь указать тебе, Лео?.. Да, она изумительна и ослепительна, да, красота у неё редкостна, и, глядя на неё, поневоле теряешься. Потому-то я и понимаю, что тоска по ней будет изнутри жечь тебя всю жизнь. И тем не менее, оставь её, Лео, послушай меня, оставь. Разве нет других девушек?
– Нет, других нет, – сказал я с непререкаемой твёрдостью. – Помимо неё, для меня никого не существует. Ванга полагает – что написано у нас на роду, то и случится. В Священном писании что сказано? Человек предполагает, а Бог располагает. Господь милостив.
– Милостив, да не к нам.
– Не греши, Лоранна, и не распаляй сердце. Верь, по воле божьей, раз и навсегда совершено всё самое лучшее и самое доброе. Бог велик в божественной своей силе и благословен ныне, присно и во веки веков. Божья слава велика.
– Божья слава велика, яма на пути глубока.
– Снова грешишь. Бог поистине всемогущ.
– Бог поистине всемогущ… Господи, да приидет царствие твоё, – пробормотала Лоранна и добавила с каким-то злорадным отчаянием: «Глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Если Бог и вправду всемогущ, отчего же не истребит окончательно горе и печаль, он же в состоянии сделать это. Почему не сделал этого до сих пор и не делает сейчас? Он могущественнее Бога.
– Кто?
– Зверь, – сказала Лоранна. – Человек-зверь. Зверь-людоед – окровавленная пасть, который за тысячелетия кое-как стал убийцей и, руки в крови, тяжко бредёт по долгому пути, ведущему его к человеку. Путь очень далёк и долог, – подытожила она. – Не знаю, как вы, а я здесь не останусь.
*******
Рена была дома, но, по всей видимости, снова не одна. Говорила негромко, словно бы прикрывала рукой мембрану.
– Это я, Рена.
– Здравствуй, – глуховатым угасающим голосом откликнулась она. – Твой телефон не работал, я звонила…Звонила много раз… Я соболезную тебе… Я очень хочу тебя видеть… Ты слышишь? – до предела понизив голос, сказала Рена. – Я люблю тебя, люблю сильнее прежнего… Я жить без тебя не могу…
Почти то же самое она сказала в редакции, со слезами на глазах признавшись, что повсюду – дома, на улице, на занятиях в институте, в транспорте – непрестанно думала обо мне.
– Человеческое сердце делает за день сто тысяч ударов, – сказала она после паузы. – Сто тысяч раз на дню моё сердце бьётся для тебя, Лео… Я боюсь тебя потерять.
Я всего лишь улыбнулся в ответ; что, собственно, мог я сказать? Ничего. Почти ничего.
– Было бы возможно, мы б улетели на другую планету, зажили бы на другой планете, – сказала Рена, плача и улыбаясь одновременно. – Все против того, чтоб я любила тебя, никто не понимает, как сильно я тебя люблю и как я страдаю, не понимают, что запреты лишь усиливают любовь. Весь белый свет против, а я ничего не могу с собой поделать, это выше моих сил, никто не может этого понять. Никто не хочет понять. – Прозрачная её слеза скользнула по щеке.
И снова после паузы:
– Известно ли тебе, что Шекспир ничего не выдумал. Ромео и Джульетта существовали. История их любви – это подлинная история. В Вероне до сих пор сохранился балкон Джульетты, тысячи туристов приезжают со всех концов света взглянуть на него. И то, что их родители принадлежали к двум враждующим кланам, между которыми пролегла стародавняя ненависть, озлобленность, вспыхивавшая после любой искры, – тоже быль. – Слёзы затуманили ей глаза, и она в отчаянии закончила: – Ничего не изменилось… Ничего не изменяется…
И в другой раз:
– Отчего ж это так, Лео? Теперь я смотрю на жизнь как-то по-другому. Прежде я на подобные вещи не обращала внимания. На нашем курсе многие уже знают, где будут работать после института: один – заведующим отделением, другой – главврачом, третий – заместителем министра здравоохранения. Родители занимают высокие посты в ЦК и Совете министров, а сами они целыми днями прогуливают занятия, и преподаватели даже сделать им замечание боятся. Недавно прочла я книгу Айтматова «Белый пароход». Там юный герой бросается в реку, потому что его легкоранимая, не привыкшая к грязи и злу детская душа не способна противостоять окружающей лжи, лицемерию и несправедливости. В самом деле, почему так?
Рена посмотрела на меня, но ответа не ждала.
– Придёт время, все люди станут братьями, – сказала она с горькой улыбкой. – Язык, вера, цвет кожи, предрассудки, которые столетьями сковывали людей, – всё это не будет иметь значения… Но когда, когда ж это будет, Лео, когда настанет золотой век? Неужели тогда, когда нас уже не будет?
*******
Поддавшись маминым уговорам, я поездом отправил её к сестре в Ставрополь.
Сеял мелкий дождик, в сероватых сумерках едва виднелись тусклые огни привокзальных домов и первые этажи туристской гостиницы, в одиночестве стоявшей на холме за вокзалом. До отправления поезда оставалось минуты две, и мама, нежданно-негаданно для меня, заговорила о Рене. После убийства отца она никогда не затевала этого разговора, ни разу не упоминала её имени.
– Так я и не повидала Рену, – с искренним сожалением сказала она, грустно покачивая головой. – Папа очень хотел её увидеть… Должно быть, ему неудобно было тебе сказать, всё меня заставлял с тобой поговорить, чтобы ты привёз её в Сумгаит. А как узнал, что восьмого марта вы приедете, обрадовался, разволновался, как дитё… Да, всё поменялось, только и осталось, что в сердце…
– Рена тоже очень волновалась, – после короткого молчания сказал я, и, хотя кроме как Лоранне никогда и никому не рассказывал о своей всепоглощающей любви, мне вдруг ужасно захотелось поговорить об этом с мамой, больше того, эта мысль доставила мне несказанное удовольствие, я и сам поразился, откуда взялось у меня непонятное трогательное чувство этакой бодрящей сентиментальности. – Папе она б очень понравилась, – с нежностью шепнул я, – и ты, мама, тоже бы полюбила её, ведь она такая хорошенькая…
Мама искоса взглянула на меня и улыбнулась сквозь слёзы.
– По фото видно, сынок. По фото видно.
– В жизни она лучше, чем на фотографии, – сказал я, и сердце быстро-быстро забилось от сладкой и глубокой тоски, которую пробудили мои же слова. – Знала бы ты, мам, какой у неё золотой характер. Будто не от мира сего – искренняя, чистая, ну, прямо святая…
– Душевная красота, сынок, дороже красоты лица. По фото её тоже видно. – Со слезами в глазах и улыбкой на лице мама ласково прижалась щекой к моему плечу. – Хорошая девушка. Глядишь, а глаза никак не насытятся, хочется глядеть и глядеть… Сестра твоя очень фото просила привезти, пускай посмотрит… – Мама помолчала и со вздохом добавила: – Что тебе сказать, сынок?.. Дай Бог, чтобы всё сложилось, как ты желаешь… Тут, в Баку, вроде бы тихо, ничего такого нет, – уже стоя в закрытом тамбуре вагона, сказала она. – И всё равно, продай машину, никуда на ней не выезжай. – Мама и раньше несколько раз говорила то же самое. Но сочла необходимым снова напомнить это в последнюю минуту. – Я позвоню оттуда. Ежели не продашь, обижусь.
Роберт помог мне с этим делом. Нашёл покупателя – худого парня по имени Гадир из Баилова. Мы вместе пошли в сберкассу, Гадир внёс на мой счёт деньги, двадцать семь тысяч рублей. У меня уже были на книжке деньги, отложенные с гонораров, итого получилось сорок тысяч.
– Ты, братец, богач, того гляди задерёшь нос, – рассмеялся Роберт.
Вечером я позвонил маме, чтоб она больше не беспокоилась.
– Я, скорей всего, здесь не останусь, – объявил Роберт. – Зармик приглашает в Москву. Можно и в Америку двинуть. Уехать многие собираются. Приеду в Москву, для тебя тоже возьму в американском посольстве анкеты.
*******
После Сумгаита жизнь для нас точно перевернулась с ног на голову. По телевидению крутили передачи, будто всё, что случилось, как селевой поток – было и прошло, что же до виновных, они непременно будут наказаны по заслугам.
Далее на какое-то время наступило затишье, этакая выжидательная ситуация, никаких передач и никаких статей о Сумгаите, кроме кратких официальных сообщений: бюро ЦК компартии Азербайджана вынесло строгий выговор Муслимзаде и освободило его от занимаемой должности. Директору трубопрокатного завода имени Ленина Абдуллаеву объявлено предупреждение за изготовление в механическом цехе по специальному заказу металлических прутьев, ножей, кинжалов, топоров и т. д. Сумгаитское городское партийное бюро вынесло строгое предупреждение первому заместителю председателя горисполкома Гасанову и заместителю председателя Тагиеву. Объявили, что девяносто четыре молодых человека, участвовавших в массовых беспорядках, арестованы, что генеральная прокуратура создала следственную комиссию, которой руководит… Александр Катусев. Тот самый Катусев, по милости которого жертвами погрома стали многие совершенно невинные люди.
– Сделают всё, чтобы скрыть и заболтать суть преступления и его организованный характер, – заключил Сагумян.
Сагумян не ошибался; уголовные дела раздробили на фрагменты и послали расследовать в разные города – Москву, Саратов, Куйбышев, Воронеж… Основная же масса этих дел осталась в Сумгаите, частично – в Баку. Тем самым ясно давали понять: никто и никоим образом наказан не будет. Организаторы и вдохновители геноцида в Сумгаите вышли из укрытий и принялись действовать. Газеты и телеэфир наводнили статьи и передачи, попирающие истину. Недолго пробыв в подполье, поднял голову один из активнейших вдохновителей сумгаитской резни академик Зия Буниятов, прославившийся фальсификациями истории и напечатавший в академической газетке «Элм» программную двухстраничную статью «Почему Сумгаит?», полную бесстыдной лжи, выдумок и давно скопившейся жёлчи, в которой без зазрения совести обвинил в преступлении… его жертв.
В редакции только и было разговоров, что про Сумгаит и Карабах.
– У нас, армян, неизменно были хорошие дипломаты, а хорошей дипломатии сроду не было, – как всегда, тихо и спокойно говорил Сагумян. – Пробовали ли мы когда-либо решить узловые, основополагающие вопросы, последовательно добиваясь ряда малых побед? Нет, мы предпочитали бороться под девизом: или триумф, или поголовная гибель. Как повели себя в двадцатом году мусаватисты? По наущению турок без единого выстрела встретили большевиков и объединились с ними, по-прежнему проводя свою, мусаватистскую политику, и советская Россия всячески поддерживала их. А теперь армяне. Ревком и большевики настроили против себя армянских рабочих и крестьянство, варварской своей прямолинейностью подталкивая тех к восстанию, и в очередной раз пролились реки армянской крови. Большевики разорили весь Карабах и сотни сёл в Армении, тюрьмы были битком набиты ведущими политиками, интеллигентами, военными. Всё армянское офицерство, тысяча двести человек, в их числе пятнадцать генералов и двадцать пять полковников, во главе с главнокомандующим национальной армией Назарбекянцем, – всех их собрали в здании парламента и предательски взяли под арест. В февральскую стужу пешком через Севан их погнали в Казах, оттуда в закрытых товарных вагонах отправили в бакинские тюрьмы, а уж оттуда, вместе с офицерами-армянами из Грузии, Карабаха и Азербайджана, которые тоже служили в русской армии и воевали на западном фронте с австрияками и немцами, на турецком фронте и в Сардарапате, – прямиком в Рязань, в концлагерь. Была уничтожена верхушка армянской армии.. Что касается Карабаха, то мы снова повторяем прежнюю ошибку. Надо было немного подождать, вопрос был поднят поспешно, стихийно, не разработана программа долговременных действий – как достичь благородной, но труднейшей цели, не изучены возможные подходы к решению проблемы. Что будет с полумиллионом армян, живущих в Баку, Кировабаде, в северном Карабахе и прочих районах? Подумал об этом кто-то? Это ведь то же самое, что вывести войска на поле боя и только тогда начать знакомиться с местностью. Подобного рода недальновидность чревата серьёзными потерями. Вновь обратимся к примеру Азербайджана. Известно, что до двадцатого года в Нахичеване жили пятьдесят четыре тысячи армян, имелось более шестидесяти армянских сёл. Примерно так же обстояло дело в Кировабаде, где прежде жило семьдесят тысяч армян. Азербайджанское руководство не пошло на конфронтацию, но прибегло к политике последовательных малых побед, составило план, как изгнать армян из одного и другого края, и с успехом его реализовало. В 69 году Лукулл наголову разбил под Тигранакертом армию Тиграна Великого и двинулся к Арташату. Однако, – Сагумян перевёл дух и продолжил, – он приблизился к городу в таком состоянии, что не решился на приступ. А дело в том. что, ни разу от Тигранакерта до Арташата не вступив в бой, римская армия растаяла. На всём пути армянские полки не нападали на неё, но каждый ночлег и каждый марш по узкому ущелью приносили неожиданные потери. Понятно, что каждая из этих потерь сама по себе была невелика, но взятые вместе они послужили причиной развала великой армии. Лукулл повернул вспять от предместий Арташата, и обратный путь обернулся для него паническим бегством, подобным бегству Наполеона из России. Мы не устаём гордиться нашей нравственной победой в Аварайрской битве, геройски погибшим у реки Тхмут доблестным полководцем Варданом Мамиконяном и тысячью тридцатью шестью святыми мучениками. А ведь как поучительна история Лукулла – точно рассчитать время и соотношение сил и путём малых побед достичь грандиозного результата.
*******
Лоранна оказалась хозяйкой своего слова. Она первой в нашей редакции покинула Баку. Её муж работал в городской госавтоинспекции, и начальник ГАИ купил у них квартиру.
– Жаль, Лео, не удалось повидать тебя напоследок, – сказала она по телефону. – Планировала прийти попрощаться со всеми, особенно с тобой, но не вышло, прости, пожалуйста. Вся наша жизнь, Лео, – длинная череда случайных встреч и взаимоисключающих обстоятельств, длинная череда внезапных поворотов, полная множества несчастных, а подчас и счастливых случайностей, неприятностей, печалей, недолгих радостей безмерной любви и безмерной ненависти… Говори, что хочешь, но это и есть подлинная жизнь, Лео, которая несёт нас, как бурная многоводная река, и она действительно полна противоречивых истин. И трудно постичь, осмыслить, какая из этих истин истинней всех остальных, ясно только, что впереди, дорогой ты мой, непроглядная тьма, не остаётся ни надежды, ни веры, что когда-нибудь жизнь опять обернётся для нас лучезарным эдемом… Может быть, мы никогда больше не встретимся… – Она на миг умолкла и поспешно добавила: – Желаю удачи на выпавшей тебе трудной дороге… Мы пока что едем в Ереван, а куда направимся оттуда – Бог весть. Прощай, Лео. Помнишь танку Ирасека, мы вместе её читали: «Останавливаются они на горестном своём пути и полными слёз глазами смотрят назад – на тот любимый, благодатный край, где был их дом и родина»? Кто бы подумал, что с нами случится то же самое? Прощай, дорогой мой, я всегда буду тебя помнить…
Она быстро повесила трубку, и я почувствовал невыразимую горечь и пустоту, жизнь словно и впрямь остановилась, утратила смысл.
Следующим был Роберт. Его отъезд, однако, никак на меня не подействовал. Может, оттого, что он просто-напросто взял отпуск и должен был вернуться. Раз он позвонил и посоветовал тоже взять отпуск и поехать к нему. «Приезжай, не пожалеешь, – сказал он. – У Москвы особая прелесть».
На другой день ко мне в редакцию пришла Эсмира. С горящими глазами, стройная и тонкостанная, как молодой тополёк, она стояла передо мной с зардевшимся искажённым лицом.
– Что случилось, Эсмира? – испуганно спросил я. – Где Рена?
– Рена дома, – пряча глаза, сказала Эсмира. – Я пришла к вам с просьбой, – выпалила она.
– Слушаю тебя, – чуть успокоился я.
– С условием, что Рена этого не узнает.
– Чего не узнает?
– Того, что… что я сюда приходила, к вам… Дайте слово, что она не узнает этого никогда-никогда.
– Даю слово.
– Нет, поклянитесь, – не уступала Эсмира, зардевшись ещё сильнее.
– Клянусь.
– Не так. Поклянитесь всем самым святым. Прошу вас… то, что я скажу вам, вы не должны передавать Рене во имя её… вашего чувства.
– Да говори же, Эсмира, не мучь меня.
– Ирада ждёт внизу. Сперва пообещала, что мы вместе к вам поднимемся, но в последнюю минуту не смогла, послала меня. Вы больше не должны звонить Рене, – сказала она и, словно сбросив тяжкую ношу, глубоко вздохнула.
– Почему?
– Не знаю, – снова пряча глаза, произнесла Эсмира. – Не могу вам сказать… Сестра вам, наверное, ничего не говорит, но ей очень тяжело… Брат её убьёт, понимаете? Вы не представляете, что у нас творится, не могу я вам всё выложить… Отныне он будет контролировать каждый её шаг… Не звоните ей, ваш звонок для неё смерть, прошу вас, умоляю. Поклянитесь, что не позвоните.
– Не позвоню, – с усилием выговорил я. – Клянусь.
– Спасибо, – прошептала Эсмира. – Я… Мы никогда вас не забудем. Никогда, никогда, – добавила она и, пуще прежнего раскрасневшись и утирая пальцами текущие по щекам слёзы, вышла из кабинета.
Её шаги, как последние отзвуки отчаяния, затихли, заглохли. Послышался шум лифта и тяжёлый хлопок железных дверей в дальнем конце коридора. Наступила тишина. Долгая свинцовая тишина.
*******
В редакции все разговоры снова и снова вертелись вокруг Сумгаита и Карабаха. В одной из телепередач поэт Сабир Рустамханлы на полном серьёзе объяснял, что в Карабахе вовсе не было никаких историко-архитектурных памятников, всё это самолётами и вертолётами завезено из Армении и сброшено в карабахские леса. «Ничего удивительного, – прокомментировал передачу главный. – Геббельс утверждал, что даже самая гнусная и отвратительная ложь, если она многократно повторена, западает в сознание человека как доподлинный факт. Этим девизом и руководствуется Зия Буниятов».
Прежний директор Ереванского азербайджанского театра Орудж Идаятов, ставший позднее главным редактором издательства «Гянджлик», выступил в республиканской молодёжной газете со статьёй. Говоря о будто бы имевших место в Капане насилиях армян над азербайджанцами, он не привёл ни одного конкретного факта и не назвал ни одного имени, зато завершил статью патетическим восклицанием: «Чего там только не происходило, моё перо бессильно воспроизвести всё это».
А прежде, когда ещё жил в Ереване, Орудж захаживал к нам в редакцию. Раза два мы передавали по радио его стихи, я был с ним накоротке.
– Орудж – обратился я к нему, встретив на первом этаже у лифта. – Прочёл я твою статью в «Азербайджан Гянджлари». Почему ты никаких фактов не приводишь, не называешь имён потерпевших?
– С-с-статью в к-корне п-п-переделали, – сильно заикаясь, сказал он по-армянски, при этом косые его глаза смотрели то ли на меня, то ли на потолок лифта. – От м-м-моего т-текста н-ничего не осталось. П-переписали.
В те дни с видавшим виды портфелем в руках и кепке с длинным козырьком на небольшой голове в редакцию заглянул Мухтар Бахшалиев, высоченный худой человек лет за шестьдесят. Кандидат исторических или филологических наук, он был завучем школы то ли в самом Капане, то ли в одной из окрестных школ, писал докторскую диссертацию и поэтому частенько наезжал в Баку.
– Мухтар-муаллим, скажите честно, прошу вас, – обратился я к нему. – Правда ли в Капане происходили стычки армян с азербайджанцами, а то не знаешь, кому верить? Судя по слухам, которые гуляли по Сумгаиту, и статье Оруджа Идиятова там убивали азербайджанцев. Это так?
– Можете дать мне кусок хлеба? – неожиданно попросил Бахшалиев.
– Какого хлеба? – не понял я.
– Ну, хлеба. Обычного хлеба.
– Сейчас принесу, – сказала Арина, зашла к себе и вынесла хлеб.
Бахшалиев взял его, поцеловал и сказал:
– Хлеб для меня святыня, и клянусь вам этим святым хлебом, готов семь раз поклясться на Коране и совершить паломничество во все три наши святилища – Медину, Мекку и Кудс, или по-вашему Иерусалим, – азербайджанцев в Капане не убивали и азербайджанских погромов там не было. Валлах-биллах , это ложь. Говорят, в Капане было какое-то общежитие для азербайджанок, это тоже ложь. Что, в Баку есть какое-то особое общежитие для армянских девушек? Вот и в Капане ничего подобного нет и не было. Как можно верить этакой ерунде? Наши мудрецы недаром говаривали: из одного и того же цветка у пчелы получается мёд, у змеи – яд. Для нас, капанских стариков-азербайджанцев, это сущий позор, что, склоняя наше имя, в Сумгаите учинили чудовищное зверство. Говорю вам как есть, даже после сумгаитского кошмара нас никто пальцем не тронул. Поговаривают, сопляки-молокососы звонили кое-кому, стращали, угрожали. Не знаю, правда ли это, мне, к примеру, не звонили. Но это тоже было после Сумгаита. Ну а если в Капане хоть один азербайджанец пострадал – ослепни мои глаза за враньё. Не было такого, ложь это. – Бахшалиев покачал головой. – Человек изначально рождается душевно здоровым, но если не выстоит перед выпавшими ему испытаниями, подчас из-за слабоволия, может получить нравственное увечье.
– Множество увечий, – уточнил Сагумян.
– Вот именно, множество увечий, – вполоборота повернувшись к Сагумяну, согласился Бахшалиев. – Между двумя народами-соседями посеяли вражду. А ведь во всём Советском Союзе ни у одного народа не было такой близости, такого родства с другим народом, как между нашими народами. У любого армянина был азербайджанец побратим и наоборот. Жаль, бесконечно жаль, что так вышло, и бесконечно жаль, что негодяи и подлецы, натравившие нас друг на друга, как всегда, выйдут из воды сухими, напротив, усядутся в кресло повыше и потеплее. Не следовало мне этого говорить, а я всё-таки говорю и никого не боюсь, потому что совесть у меня чиста. Первый секретарь Апшеронского райкома Зограб Мамедов – из наших краёв, и у него по этой части рыльце в пушку. А ещё страшная вина за сумгаитские погромы лежит на артистах Ереванского азербайджанского театра. Это они по сценарию Оруджа Идаятова и Хыдыра Аловлы разыгрывали пострадавших капанцев, рассказывали жуткие небылицы, возбуждали народ. Будь они прокляты, злодеи! Да обрушит Аллах на их головы беды, какие они принесли другим. А сверх этого ничего не скажу.
Бахшалиев помолчал, погружённый в себя, и прибавил со слабой улыбкой на бледном лице:
– Время всё лечит, всё забывается. Пройдут долгие годы, много-много лет, армянин с азербайджанцем опять помирятся, подружатся, по-иному никак нельзя. Кровь кровью не отмывают, кровь отмывают водой. После пятого–шестого годов и после восемнадцатого–двадцатого между нами тоже собака пробежала, но время шло, и мало-помалу наступало примирение, люди, как и прежде бывало, снова селились бок о бок и жили в ладу и согласии, как жили до того, как на Кавказе объявились турки. Что до пятого года, тут не обошлось без русских, распрю затеяли с подачи Николая Второго. Кавказских армян решили проучить за то, что они протестовали против закрытия их национальных школ и захвата церковного имущества. Но в любом случае не должно было так быть. Чтобы в свободной советской стране да такое бедствие… Гром средь ясного неба.
– По его словам, время всё лечит, всё забывается… – Бахшалиев ушёл, и после его ухода заговорил Сагумян. – И время, и мудрость бессильны уврачевать душевные раны. В февральской резне пятого года погибли несколько моих родственников. Между прочим, до сих пор, к несчастью, не выяснено, чем занимался в те дни Иосиф Джугашвили, хорошо известный в воровских кругах под кличкой Чопур*, зачем он срочно приехал из Батума в Баку, какую цель преследовали его тайные встречи накануне погромов с главарями городских бандитских группировок? Револьверный выстрел одного из этих главарей, некоего Бабаева, в саду Парапет по соседству с армянской церковью в воскресный день шестого февраля и положил начало столкновениям между армянами и мусульманами. Что делал он у бакинского губернатора Накашидзе, ведь и месяца не прошло после «кровавого воскресенья»? Вооружённая правительством толпа нападала на дома армян, поджигала и грабила их, убивала их хозяев. А тем временем Накашидзе, которого спустя три месяца, одиннадцатого мая, как собаку, пристрелит Дро, разъезжал со своей свитой по городу, возвращая погромщикам отнятое у них казаками оружие. Несколько месяцев спустя то же случится и в Елизаветпольской губернии, в Гандзаке, где губернатором был генерал Тайкашвили, племянник Накашидзе. Под его высоким покровительством мусульманам тайком раздавали оружие, тогда как всех армян без разбору разоружали. Восемнадцатого ноября в Елизаветполе, то есть Гандзаке, где, как писала газета «Кавказ», в то время жило семнадцать тысяч турок и ===============================
*Чопур — рябой.
пятнадцать тысяч армян, случилась ужасная резня. Тайкашвили с начальником полиции Теймурбеком Гасанбековым и охраной стоял возле гостиницы «Централ», курил и со смехом наблюдал, как режут безоружных армян. А с начала следующего года по прямой его указке погромы возобновились в Дживанширском, Шушинском, Джабраильском, Шакийском, Арешском, Казахском, Зангезурском уездах и в самом губернском центре – Гандзаке. В этих уездах разрушили десятки армянских сёл, несколько деревень уничтожили под корень. Одно из них – Минкенд, расположенное между Зангезуром и Карабахом. Сто девяносто семь его жителей вместе с грудными младенцами были вырезаны. Подчистую вместе с двумястами двадцатью крестьянами было истреблено также село Крзен, стоявшее вблизи Куры в Арешском уезде… Накашидзе на посту бакинского губернатора сменил Фадеев, особа не менее гнусная, чем его предшественник, и не случайно в августе и октябре того же года в новых погромах, убийствах и грабеже армян участвовали заодно с татарами уже и лезгины, русские и казаки – под музыку, с флагами и портретами царя. Разве такое забывается? В восемнадцатом году я был семилетний мальчонка, и мне врезалось в память, как на Сабунчинском вокзале собирали со всего города мужчин, и стариков, и молодых. С площади, огороженной канатами, их грузили в товарные составы и везли на погибель на станцию Альят. Этот самый Альят отлично виден мне с балкона. Наверное, Бог пожелал, чтобы я каждодневно созерцал место, где зверски убили моего отца и двух старших братьев. Созерцал и мучился. Поди и забудь такое.
*******
Мерцая и трепеща ломкими красно-зелёными огоньками, играет во тьме магнитофон… Рена, должно быть, уже спит… Я взглянул на часы – первый час ночи. Конечно, спит… Во сне, наверное, улыбается своими сладкими, медовыми губами… Непостижимо, поразительно; почему, зачем и вообще как это происходит, что совершенно не знакомое тебе прежде существо, про которое ты знать не знал и понятия не имел о его на свете существовании, нежданно-негаданно появляется, забирается тебе в сердце, переполняет от края до края душу неизъяснимым блаженством, и ты самозабвенно и беспрестанно думаешь о нём, днём и ночью мечтаешь о нём?..
Внезапно раздаётся телефонный звонок. Странно, кто это в такой-то час? Я лениво снял трубку. На том конце провода ни звука. В молчании таилась осмысленность, я почувствовал это, и молниеносно возникшая мысль вызвала учащённое сердцебиение. Сердце сказало – она.
– Ты звонишь, чтобы перед сном я услышал ангельский твой голос? – произнёс я восторженным шёпотом. – Ну так говори.
На том конце провода раздался смешок, и Рена тихонько сказала:
– Ровно наоборот, я звоню, чтобы не ты, а я сама услышала твой голос.
Услышала, и душа полна священным чувством.
– А как ты узнала, что, погасив свет, я думал в эту минуту о тебе? Под боком у меня тихонько играет магнитофон, и под упоительную мелодию я грежу наяву. Я и вправду думал о тебе, Рена. Замечательно, что ты позвонила. Неужели ты читаешь в моём сердце?
– Да, – прозвучал её нежнейший шёпот. Должно быть, она улыбалась.
– И ты, конечно, чувствуешь – оно бьётся только ради тебя.
– Мне б этого хотелось.
– Так оно и есть, Рен, это так. И не только потому, что тебе этого хочется, и не потому, что хочется мне. Так пожелал Творец. Я люблю тебя. – Волна, непроизвольно захлестнувшая меня изнутри, увлажнила мне глаза. – Я люблю тебя, я люблю тебя.
– Спи, уже поздно. Я не могу говорить долго. Услышала твой голос, и мне теперь так приятно… Видимо, величайшее в жизни счастье – быть уверенной, что тебя безумно любит тот, кого ты и сама безумно любишь… Послезавтра я приду к тебе. Хотела зайти в конце недели, но нет, столько я не вытерплю. Цавед танем, спокойной ночи.
*******
Я вышел из кабинета главного и тотчас увидел Рену. В лайковом желтовато-коричневом плаще нараспашку, в блестящей светло-розовой шёлковой блузке, в тёмной плиссированной юбке, длинноногая, с изящной голенью, словом, очень эффектная, она быстро проходила по хорошо освещённому коридору, ни на кого не обращая внимания, тогда как остальные поневоле замедляли шаги, оборачивались и глядели ей вслед. Я смотрел на неё с неизменным восхищением и тёплым чувством, думая, что красота приятна и человеку, и Богу и что нет на свете ничего прекраснее красоты красивой девушки. Дойдя до моего кабинета, Рена с улыбкой открыла дверь и, обнаружив, что внутри никого нет, обескураженно замерла. Не дав ей повода для беспокойства, я тут же подошёл и не без волнения поздоровался.
Рена повернулась, улыбка её снова расцвела, распустилась на дивном лице и в лучистых голубых глазах.
– Привет. Я поднялась на минутку, – немного запыхавшись от быстрой ходьбы, сказала она и вошла в кабинет. – Только на минутку, я ведь обещала. Хотела повидаться, но задерживаться не могу. Как ты? – спросила она, непроизвольно придвинувшись ко мне.
С нежностью, выдававшей, как я соскучился, обнял я Рену, самое родное мне в этом огромном городе существо, потёрся лицом о её чудные волосы, а вот поцеловать отчего-то не решился.
– Нормально, – всё ещё взволнованно сказал я. – Ты-то как? – Словно в первый раз, я не в силах был оторвать от неё взгляд.
– Тоже нормально… Ну ладно, мне пора. – Рена легонько вздохнула. – Дольше не могу, готовлюсь к экзамену.
Экзамен она, конечно, выдумала, тут я не сомневался.
– Побудь хоть немного, – умоляюще взял я её за руку.
– Нет, нет, нет, не могу. Но буду заглядывать. – Осторожно высвободив свою руку, Рена попятилась к двери и с улыбкой добавила: – Зайду через два дня в это же время. Смотри не уходи, – наказала она с той же улыбкой. – Будешь ждать?
– Разумеется, – сказал я. – Не то что два дня – два года, – попробовал я пошутить.
– Два года? – искоса глядя на меня лучистыми голубыми глазами, спросила она. – Так мало?
– Ну, тогда не два, а двадцать лет, – уступил я с улыбкой. – Одиссей двадцать лет ждал Пенелопу.
– Не-ет! – простодушно не согласилась Рена. – Это Пенелопа в Итаке двадцать лет ждала Одиссея, а не наоборот. Да ты лгунишка!
Я засмеялся, обнял Рену у дверей и ласково спросил:
– А ты? Ты будешь меня столько ждать?
– Я?.. – она отпрянула, словно бы раздумывала над ответом, и сердце у меня тревожно ёкнуло. – Если возникнет нужда – буду, – отчётливо произнесла Рена. – Но нет, – после секундной заминки она резко встряхнула головой. – Не смогу я ждать целых два года, – с кокетливой улыбкой сказала она, положила руку мне на грудь и кончиком языка медленно провела слева направо и справа налево по верхней губе, просунула пальчики под галстук, скользнула под рубашку и, беззвучно смеясь, пощекотала меня. У меня тут же перехватило дух. – За два года я умру в тоске, – уже игриво сказала она и вдруг, неожиданно подавшись вперёд и благоухая духами «Клима», крепко прижалась ко мне хрупким, трепещущим жизнью телом. – Какие два года! Для меня прожить без тебя два месяца – пытка. – Раскрасневшись от волнения, Рена впилась пылающими своими губами в мои губы.
Это длилось мгновенье. С навернувшимися на глазах слезами она попятилась и, выскочив из кабинета, побежала по коридору к лифту.
*******
Следующим своим звонком Роберт меня расстроил. По его словам, Зармик советует ему не возвращаться в Баку, остаться в Москве и заняться торговлей. «Это самое выгодное нынче дело, – сказал Роберт. – На него вся интеллигенция переключилась. – И спросил: – Завтра иду в американское посольство, взять анкеты для тебя?» «Возьми, – равнодушно сказал я, и тут же меня осенила мысль – уехать с Реной в Америку. – Возьми, – торопливо повторил я, – непременно возьми. Когда понадобится, приеду».
Двумя днями позже я осторожно намекнул на это Рене, не зная, как она отнесётся к новой перспективе, и страшно обрадовался – её глаза загорелись восторгом.
– В Америку? – взволнованно прошептала она. – Разве это возможно?… Я думала днём и ночью, выхода не видела и пришла к выводу – нет в жизни большей трагедии, чем абсолютная невозможность изменить то, что выше наших сил. Боже мой, неужели это возможно…
– Так ты уедешь со мной? – обрадованно спросил я.
Рена вдруг опечалилась и с горечью посмотрела на меня.
– Да, но… представляешь, под какой удар я поставлю наших? – вполголоса произнесла она. – Но чем же я виновата, Лео, скажи, чем я виновата? – Словно подбадривая себя, она с виноватой полу-улыбкой добавила: – Как бы то ни было, я поеду с тобой куда угодно, – заключила она, обвив мне шею руками. – Понятно, наши меня не простят. Не простят поначалу, ну а в конце концов сдадутся… Боже мой, я никому этого не скажу, никто не узнает об этом. Ирада с Эсмирой тоже. Позвоню прямо перед отъездом, но где я, всё равно скрою. Согласен, Лео? И тогда уж мы будем вместе всегда. Боже мой, неужели это возможно? – возбуждённо повторила она. – Я посвящу тебе, Лео, всю свою жизнь, каждую минуту своей жизни, буду кроткой, верной и преданной и никогда-никогда, я тебе уже говорила, не сделаю ничего, что причинило бы тебе боль. Я пожертвую ради тебя всем, что у меня есть, всё принесу тебе в жертву, а взамен потребую лишь одного – люби меня. Я очень тебя ревную, без конца думаю об этом, но тебе не говорю и никогда не скажу. Хочу, чтобы ты любил одну меня и никого кроме, слышишь, никого кроме… А ты любил кого-нибудь? – неожиданно спросила она, уставившись на меня широко распахнутыми глазами и с некоторой робостью дожидаясь ответа.
– Да.
– Неужели? – Рена подалась назад, тревожно глядя на меня.
– Это было давно, ещё в школе.
– Где, в Сумгаите? – спросила она разочарованно и растерянно.
– Да нет… У нас в деревне. С первого по шестой класс я учился в деревне. Там.
Рена малость успокоилась, втянула в себя воздух и запоздало спросила:
– Как её звали?
– Людмила.
– Она была красивой? – опять же запоздало спросила Рена.
– Красивой.
– И ты её вспоминаешь? – глухо спросила Рена.
– Вспоминаю, – сказал я. – Изредка. Когда она улыбалась, улыбка появлялась у неё в глазах и растекалась по лицу. Это я помню… Но ведь это было так давно.
Я учился тогда в шестом классе. В начале сентября всю школу, с шестого по десятый класс, повезли на грузовиках на поля Нижнего Оратаха – собирать хлопок. Там-то, поздно вечером, звёздным и лунным, в тени вышедших из строя тракторов и молотилок мы с Людик и поцеловались. И, нежная, необычайно родная, она положила голову мне на грудь… Я до рассвета не мог уснуть в любовной лихорадке. Тайное это свидание и первый в жизни поцелуй будоражили меня…
Стоя перед окном в модных облегающих джинсах, Рена долго молчала. Она неотрывно глядела вдаль, на тихое море.
– Любовь это то, – сказала она, – после потери чего нам уже нечего терять.
Чуть погодя она спросила гаснущим шёпотом:
– Мы уедем в Америку, и нам никто не помешает всегда быть вместе?
– Никто не помешает, никто. Мы всегда будем вместе и всегда неразлучны, – бормотал я таким же гаснущим шёпотом.
– Господи, когда же придёт этот день?..
Я нежно обнял Рену за плечи, вдыхая благоухание её податливого тела.
– Лео, любимый, я ведь пришла только на минутку, – сказала она, – я…
Я приложил пальцы к её губам.
– Я люблю тебя, – не позволяя ей завершить фразу и немного робея, сказал я. – Ты знаешь это? – Лицо у меня, должно быть, исказилось, потому что Рена, похоже, чуть-чуть испугалась, отпрянула назад и прижалась округлой попкой к письменному столу. Тем не менее, она улыбалась.
– Нет, ответь, знаешь ли ты, что я тебя люблю?
По-прежнему улыбаясь, Рена кивнула, что значило – да,она знает, что я её люблю.
На лицо ей упал яркий солнечный луч. Прищурившись, Рена взглянула на меня, небрежным движением головы откинула назад золотистые волосы, на мраморно-белой, как у Нефертити, шее блеснули цепочка и кулон с голубовато-белым бриллиантом. Очарованный ослепительной Рениной красотой, я ласково взял её за подбородок: Рена слегка запрокинула голову, глядя на меня нежным мерцающим взглядом.
– А что я влюблён в тебя до умопомрачения, – дрогнувшим голосом прошептал я, – это ты тоже знаешь?
Рена снова кивнула, улыбаясь шире прежнего.
Не отдавая себе отчёта в том, что делаю, я повернул в двери ключ:
– Я тебя отсюда не выпущу.
Положив на грудь руки с прозрачными пальцами, Рена посмотрела на меня с немой просьбой. Но ничего не предприняла и не сказала. Она сознавала силу своей прелести, в её взгляде светилась уверенность в себе, ясные глаза лучились лукавой одухотворённостью. Снова скользнув кончиком языка по верхней губе, она взирала на меня с солнечной улыбкой, словно упивалась моей растерянностью. А я… я никак не мог отвести взгляд от огнистых её губ.
Боже ты мой, до чего ж она хороша, когда, чуть откинув голову, заливается журчащим смехом и жемчужный ряд её зубов блестит, как свежевыпавший снег на утреннем солнце, когда, словно б обиженная, как Мона Лиза в Лувре, с прищуром устремляет на тебя пронзительный и мимолётный взгляд, а в неповторимо лучащихся синих-пресиних глазах играет всепрощающая таинственная улыбка, когда обворожительным привычным движением откидывает со лба золотистую прядь, когда, внезапно зардевшись от овладевшего ею порыва, бросается в объятья, и обволакивает ароматом юного тела, и прижимается так, будто жаждет раствориться в тебе и просочиться в душу, когда… Боже, Боже мой, как она желанна и восхитительна, меня и вправду сводит с ума её дивный вид, посадка головы, лёгкая чуть враскачку походка, медово-бархатистый голос; в ту минуту я с внезапной, неодолимой и сумасшедшей страстью желал одного – поцеловать кончик её розового язычка, скользивший по припухлой губе. От сумасбродной этой мысли у меня закружилась голова, я как-то непроизвольно схватил Рену повыше локтя и порывисто притянул к себе.
– Никто на свете, Рена, никогда и никого не любил и не мог любить так, как я люблю тебя. – Мои жадные губы впились в её сладостный рот. Ренины губы пылали пышущим изнутри огнём. Я чувствовал и этот жар, и жар её девственного тела, мягкой налитой груди. Поднявшись, её руки нежно обвили меня, пальцы перебирали мои волосы. Поначалу я целовал Рену до крайности нежно, а потом исступлённо, взасос. И сочные Ренины губы мало-помалу открывались, уступая этому исступлению, её зубы покусывали меня; захлёстнутый счастьем, я вконец потерял себя, кружился, подхватив её, по кабинету и, не отрываясь от её рта губами, посадил её на письменный стол.
– Всему свету ведомо – ты моя, ты птица, а я гнездо твоё, – почти бессвязно бормотал я и жаждал, чтоб эта минута тянулась вечно, жаждал вечно чувствовать дрожь её тела и жар, исходивший с волной восторга и слабым стоном из её разжатых губ, я жаждал держать и держать её в объятьях, любить, ласкать, облизывать с головы до ног, я не хотел выпускать её, не мог ею насытиться, я услаждал зрение бесконечным её созерцанием… Наконец, точь-в-точь очнувшись от наваждения, Рена сказала:
– Я пойду… Мне нельзя задерживаться, – застёгивая лайковый с бахромкой плащ, прошептала она и выскользнула из моих объятий. В дверях она ещё разок обернулась, улыбнулась мне, покрасневшая и смущённая, своей солнечной, лучистой улыбкой и тихонько произнесла: – Цавед танем.
*******
Роберт позвонил в конце недели.
– Анкеты я взял, – сказал он, – Но заполнить их ты должен сам, своей рукой и сам же сдать в посольство. Сдаёшь и ждёшь интервью. Словом, едем в Центральный Мичиган, в Лансинг.
Мне пришлось долго уламывать главного, прежде чем он подписал заявление.
– Я всё понимаю, ты два года не был в отпуске. Но ведь я же почти один остаюсь, – задумчиво расхаживая по просторному кабинету, говорил он. – Вы все разъезжаетесь. Вот и Арина написала заявление, они, кажется, обменивают квартиру.
– Как так? – изумился я.
– Я только что подписал ей заявление, понесла в отдел кадров.
В угловой, выходившей на солнечную сторону комнатке Арины было две двери, одна вела в общий отдел, а другая в кабинет главного редактора. Дверь не была закрыта, и я напрямую прошёл к Арине. Она стояла у окна в лучах вечернего солнца.
– Уезжаешь, а мне ничего не говоришь? – входя, сказал я с лёгкой обидой.
Она быстро повернулась ко мне. Глаза черны, нежны и, что называется, на мокром месте.
– Тебе главный сказал? – улыбаясь сквозь слёзы, тихо спросила Арина.
– Ну да.
– Знал бы ты, Лео, как мне тяжело, – грустно произнесла Арина, подсаживаясь к столу и положив на столешницу маленькие свои руки. – Можешь ты это представить? Не можешь.
Отвернувшись, Арина уставилась в окно. Ей не хотелось показывать мне свои слёзы. После паузы сказала:
– Рождаемся из ничего, из безвестности, и направляемся в безвестность. А по пути теряем тех, от тоски по кому мается душа… Люди знать не знают, что тот, кто с готовностью всем улыбается, тайком плачет по ночам. Если ж он порою, съёжившись под одеялом, кутается от холода и всё равно не в состоянии согреться, то холод этот не снаружи, нет, изнутри, откуда-то из глубины сердца… – Арина сделала паузу и задумчиво сказала. – Я пришла к убеждению, что есть два способа жить. Можно жить и считать, что чудес не бывает. А можно верить, что жизнь и сама по себе чудо. Я почувствовала это только здесь. И мне сдаётся, что случайностей вообще не бывает, всё на свете либо испытание, либо кара, либо дар, либо предзнаменование. Что из этого моё, понятия не имею. Знаю только, что в жизни всякого, подчас и поздно, но непременно появляется кто-то, встреча с кем совершенно тебя преображает. И вовсе не важно, полное ли это счастье, нестерпимая ли боль. Просто чувствуешь и сознаёшь – ты уже не та, что прежде, и прежней уже никогда не будешь. – Она снова сделала коротенькую передышку. – Волею судьбы и благодаря тебе, Лео, я попала сюда. Почти три года я приходила на работу как на праздник. Я всегда буду помнить весёлые наши субботники, когда мы сажали деревья в парке у Шиховского пляжа, не забуду нескончаемый смех и забавные истории, когда мы сидели после субботников и первомайских демонстраций в кафе. Всё-таки жизнь это не те дни, что минули, а те, что остаются в памяти. Господи, Лео, разве мыслимо забыть это, разве я когда-нибудь это позабуду?.. Обаяние трёх этих лет навсегда запечатлелось во мне, и где б я ни очутилась, и что бы со мной ни сталось, оно согреет всю мою будущую жизнь…
Арина посмотрела на меня в упор, и в слепящем закатном свете блеснули влажные её глаза.
Мне тоже трудно было вообразить, что я уже не увижу её, за эти три года я тоже свыкся с ней.
-Куда вы едете, в Ереван? – спросил я. – По словам главного, вы меняете квартиру.
– Отдаём просторную трёхкомнатную квартиру с мебелью в сталинском доме да ещё приплачиваем немало, а взамен получаем две комнатушки где-то на окраине Еревана. Свёкор тут же согласился, потому что потом и этого не будет, азербайджанцев-то в Ереване раз, два и обчёлся, а в Баку – сотни тысяч армян.
– Это же временно, всё утрясётся, – сказал я.
– Утрясётся… жизнь, она тоже временна, – грустно улыбнулась Арина и, глубоко задумавшись, добавила: – У свёкра мнение другое. Ты-то что будешь делать?
– Останусь тут, – просто так сказал я. – Не всем же нам уезжать.
– Родители мужа поселятся в Ереване, а мы поедем в Венгрию. Брат свёкра там служит, в городе Веленце, он офицер. Живут они, по его словам, на самом берегу озера, зовёт нас. Я позвоню тебе оттуда, хотя бы голос услышу, – горько улыбнулась Арина. – Я часто тебя огорчала, Лео, прости, пожалуйста. Мужа моего тоже прости, он вспыльчивый, но сердце у него доброе, ему страшно неловко. Между прочим, отец его чуть из дому не выставил за тот визит.
– Я уже забыл про это.
– Это из-за меня вышло, наговорила Сильве всяких глупостей, она и уши развесила. Потом пошли мы с мужем к ним, так она глаз на меня не подняла со стыда. Муж решил, она всё выдумала. Я сама виновата, не надо было болтать.
– А что ты, собственно, наболтала? – подсев к столу напротив, полюбопытствовал я.
– Да так… Про что мечтала, выдала за правду…
Арина посмотрела на меня, словно раздумывала, стоит говорить или не стоит, а потом разом выпалила:
– Призналась ей, что влюблена в тебя и что будто бы ты тоже ко мне неравнодушен. Не хотела, чтобы, когда она устроится сюда работать, заводила с тобой шуры-муры. – Арина отбросила волосы со лба, при этом внимательно следила, как я отреагирую.
– А дальше? – спросил я со смешком.
– Дальше?.. Она всё доложила мужу. Представила дело так, мол, я помешала ей устроиться на работу.
– Выходит, её муж не был против?
– Конечно, нет. Это я подстроила, чтоб она сюда не приходила. Не хотела, и всё тут. Вроде как ревновала. – Арина улыбнулась, посмотрела мне прямо в глаза и сказала: – Добавлю кое-что, всё равно ведь последний день, ты простишь. Сколько девушек тебе ни звонили… Особенно одна, очень красивая, с золотистыми волосами, носила шляпку в стиле Мерлин Монро. Улыбчивая такая, с ужасно красивыми губами, и глаза тоже очень красивые, серые, будто у тигрицы. С первого или второго курса строительного института, Сильва Асриян, я её видела здесь раза два, последнее время что-то не появляется… Вот она особенно настойчиво звонила… Словом, я всем отвечала, что тебя нет на месте – то ли в отпуске, то ли ушёл, ну, всё в таком роде. Тоже, должно быть, из ревности. Я и к Лоранне тебя ревновала, бывало, дух от злости перехватывало, – внезапно залившись краской, призналась она. – Особенно когда она часами у тебя сидела. Ты сердишься?
– Да нет. – Я с улыбкой покачал головой. Я вправду почему-то не сердился. Что-то во мне крошилось, я чувствовал, что теряю сегодня нечто дорогое и родное, очень мне родное.
Несколько мгновений Арина молчала, в ней ощущалась внутренняя борьба, она покусывала губы и снова вперяла глаза в окно. Потом обратила ко мне чрезвычайно сосредоточенный взгляд и с полу-улыбкой, осветившей её лицо, сказала:
– На свете, Лео, было два слепца. Первый ты, потому что не видел, как ты мне дорог, и я, потому что не видела никого, помимо тебя… Одинокие люди не редкость, их сколько угодно, – прибавила она. – Можно иметь множество приятелей. Родственников, друзей… Можно иметь одного того, кто любит тебя и всегда рядом с тобой, и всё равно быть одинокой, испытывать одиночество. Тебе будет казаться, что ты всю жизнь искала, да так и не нашла. Не нашла того, кому бы всецело себя отдала; при таком счастье ты бы сама себе позавидовала… Понимаешь меня? – спросила она и, не дожидаясь ответа, продолжила: – Время – то единственное, что нельзя повернуть вспять. Нам чудится, оно наше, но нам оно не принадлежит. Удержать его превыше наших сил. Оно ускользает, убегает от нас, как песок меж пальцев. Нынешний день никогда не повторится. Вот этот блаженный миг, тот, что здесь и сию секунду, он тоже не вернётся… – Арина повернулась и, подперев ладонями щёки, воззрилась в окно; наконец, не оборачиваясь, произнесла: – Человек осознаёт ценность того, что у него было, не раньше, чем утратит это. Все эти три года, Лео, я всегда чувствовала твою близость и не просто уважала, но поклонялась тебе, таким ты останешься и в моей памяти… Между нами ничего не было, – продолжила она с трогательной искренностью, – но я так была тобой увлечена, так потеряла голову, что куда бы ты меня ни позвал, последовала бы за тобой, куда бы ни пригласил – побежала. Мейерхольд страшно ревновал свою жену, Зинаиду Райх, к Есенину, ему казалось, Есенину довольно поманить её пальцем – она побежала бы за ним без оглядки. Будто про меня сказано… Но ты меня не позвал, не пригласил никуда, хотя знал и видел, как самозабвенно я тобою увлечена. Да, ты знал это, нельзя было не знать, не чувствовать, огонь и любовь невозможно скрыть, но ты, тем не менее, не воспользовался моей слабостью…
– Но ведь мы же родственники, Арина?
– Потому я тебе и признательна, потому моё чувство ещё глубже. Знаешь, что я однажды подумала. – Плавным движением руки, вновь убрав со лба непослушную прядь, она сказала: – Я подумала, что душа прекрасна своей чистотой, и когда ты любишь, но твоя любовь безответна, грустить незачем, победа всё равно за тобой, ибо твоя любовь столь велика, что не умещается в его сердце. И не стоит унижаться и бегать за тем, кто счастлив и без тебя. Честное слово, на минутку мне захотелось, чтобы ты полюбил меня, только затем, чтоб я тебе отказала, и ты бы помучился. – Арина повернулась, пристально на меня посмотрела и добавила: – Но… когда ты любишь безумно, бескорыстно и безраздельно, то хочется лишь одного – чтоб он был счастлив. И хочется сделать всё ради этого, неважно, твой он или не твой… Да, ты хочешь ему только хорошего, чтоб он был счастлив. Однако сердце сжимается от боли, когда ты видишь, как он счастлив с другой. – Она слегка помедлила. – На свете, должно быть, у всего есть конец – у любви, слёз и муки, бесконечна только память, у неё нет ни конца, ни края. Я буду помнить тебя, Лео, как брата, как родного человека до самого конца, до последнего дыхания… Поверь, эта память останется со мной навсегда, это моя Жар-птица, и никому не под силу отнять её у меня…
Я не знал, чем ответить Арине, не мог подыскать слов, и мысль, что мы впрямь уже не увидимся, вызывала в душе боль и отчаяние. Но что-то нужно было сказать. И, положив руку на её смуглую с тонкими пальцами ладонь и нимало не веря своим словам, я произнёс:
– Мы ещё встретимся… Встретимся через много лет и поглядим друг на друга туманными нежными глазами.
Она беззвучно улыбнулась. Улыбнулась устало. Встряхнула головой.
– Нет, – грустно возразила она, – это не повторится, не повторится… Я знаю, чувствую, что вижу тебя в последний раз, в последний раз смотрю в дорогие мне глаза, а ещё знаю, что тысячекратно увижу во сне эту сценку – последнюю нашу встречу в залитой солнцем комнате…
Аринины глаза увлажнились, она вновь улыбнулась блестящими от слёз глазами и сказала:
– Но я счастлива хотя бы тем, что говорю тебе всё это и, что ты это слышишь. Потому что тяжело носить в себе боль невысказанных слов. Я не плачу и, погляди, не лью слёз из-за того, что всё уже позади. Нет, я улыбаюсь, поскольку всё это действительно было. – Она немного помолчала. – В прошлом году ты подарил мне на восьмое марта пластинку. Я часто её слушаю. Патрисия Каас поёт грустную песню, я ставлю пластинку и вспоминаю, вспоминаю тебя. Поёт она приблизительно вот что: когда вижу на улице стариков, меня на миг охватывает ужас, ведь настанет и наша последняя весна, и там, где горел огонь нашей молодости, мы найдём только пепел, ибо жизнь подобна розе, её лепестки – видимость, а шипы – реальность… А ты говоришь: мы встретимся и нежно посмотрим друг на друга…
Она быстро повернулась, снова выглянула из окна наружу, где догорал солнечный день и на стенах зыбким веером мерцали золотые и оранжевые блики закатного солнца.
– Почему. Лео, почему так быстро заканчивается счастье? – сказала Арина. – И вообще, что это такое, счастье? Поражающая красотой радуга, преломлённый в слезе, мгновенно гаснущий луч солнца…
Вот так мы с Ариной и расстались, она такой и осталась у меня в памяти – сидит за сияющим полированным столом в залитой золотым закатным солнцем комнатке, печально улыбается мне и смотрит близким и родным взглядом, а в красивых чёрных её глазах застыли слёзы.
Наутро Арина не пришла на работу, и больше я её не видел.
Два дня спустя ближе к вечеру я вылетел в Москву, к Роберту.
– Не очень задерживайся, – со свойской улыбкой напутствовал меня главный. – Не бросай меня одного.
Рена пришла меня проводить. Это было неожиданно, в редакции мы договорились, что провожать она не придёт, я сказал, что улетаю ненадолго и провожать меня не стоит. Однако, завидев её в аэропорту, буквально остолбенел. Я был уже на лётном поле, у самолётного трапа, когда вдруг увидел её за толстыми стёклами залитого поздним осенним солнцем зала ожидания. Мне показалось, она была в том же белом платье, в котором я увидел её впервые. С развевающимися по сторонам волосами, она без устали махала рукой, прощаясь. Издалека не было видно, но мне чудилось, что она беспрестанно улыбается мне неотразимой зовущей улыбкой своих прозрачных голубых глаз.
*******
Я и в самом деле полагал, что не задержусь в Москве. Чтобы заполнить анкеты, понадобилось вызвать маму из Ставрополя. При содействии Роберта мы сняли комнату в коммунальной квартире и чуть ли не каждодневно ходили в посольство сдавать бумаги. Там были громадные очереди, кое-кто приходил занять очередь в полночь. Желающие уехать в Америку были по преимуществу сумгаитцы, но день ото дня росло число беженцев-армян из Баку и разных районов Азербайджана. Покинувшие родные очаги, беззащитные и беспомощные, они рассказывали друг другу о свалившихся им на голову бедствиях, одно другого чудовищнее, и, должно быть, эти рассказы приносили им какое-то облегчение.
– Всю жизнь мучайся, страдай, испытывай бесконечные притеснения, даром, почти что даром надрывайся на эту страну, строй для неё, чтобы в конце концов остаться без крыши над головой, голым и беззащитным, – роптала очередь. – Посмотрите-ка, что пишут уехавшие. Разом обеспечивают жильём и всем необходимым, каждому назначают пособие – шестьсот тридцать долларов и ежемесячно ещё откуда-то сто тридцать долларов, больница, лекарства – бесплатно, высшее образование детям – бесплатно, люди плачут, если, говорят, были где-то такое отношение, такая забота и такой рай, чего же ради загубили мы свою жизнь в том аду. Люди, говорят, неловко себя чувствуют, они же ничего для этой страны не сделали и получили столько благ и льгот. Не то что здесь… Страна без конца и краю, тысячи обезлюдевших деревень, а для нас ни места нет, ни прописки, ни работы, на каждом шагу запреты, куда ни сунься – взятки, побои, унижения, простого сочувствия и того нету. За что же наши отцы и братья кровь проливали, гибли в Великую Отечественную, коли нынче нам Америка протягивает руку помощи? Позор этакому государству!
Я сокрушался, что не могу позвонить Рене, сердце изнывало от тоски, но нарушить данное Эсмире слово и, главное, подставить Рену под удар я тоже не мог.
Позвонил главному, он страшно обрадовался, но сильно меня огорчил – ситуация в городе, сказал он, неважная. «Радио, телевидение и газеты наводнены армянофобскими выдумками, – тихо сказал он.– Но мы не вмешиваемся и выпускаем только официальные материалы. Зато подонок Геворг Атаджанян, – главный перешёл на шёпот, – за компанию с негодяем Робертом Аракеловым, сынком Каро Аракелова, со списком в руках собирали деньги у сотрудников газеты “Коммунист” – будто бы для того, чтобы послать в Москву телеграмму. Ты представляешь, что это значит – в многоэтажном издательском здании, где, кроме армяноязычной газеты «Коммунист», десятки других редакций, демонстративно собирать деньги? Никакого сомнения, вся эта затея со сбором денег подробнейшим образом подстроена, чтобы завтра же на митинге у дома правительства начались толки, мол, бакинские армяне собирают средства для Карабаха. Ничего такого не было, это наглое враньё, но в городе резко поменялось отношение к армянам… Я тоже, Лео, я тоже виноват. Я говорил тебе, что дал Геворгу рекомендацию в Союз писателей. Словом, Лео-джан, – добавил он в конце, – пока что приезжать не стоит, не советую тебе. Подожди, а там видно будет, чем закончится эта заваруха, я здесь кое-как перебьюсь».
На исходе второго месяца я снова позвонил главному, но его телефоны – ни рабочий, ни домашний – не отвечали. Другие редакционные телефоны тоже были отключены. Я позвонил Сиявушу, мне показалось, настроение у него неплохое. Спросил: «Как в Баку жизнь?» «Ничего, – сказал Сиявуш и пошутил: – Если выпивку нашёл, всё на свете хорошо».
В конце недели по центральному телевидению прошла передача о том, что жизнь в Баку входит в нормальное русло, работают все заводы, предприятия и учреждения, возобновились занятия в учебных заведениях.
После очередной встречи с Робертом я твёрдо решил не говорить маме, что собираюсь в Баку. Мы с Зармиком условились туда съездить. У него был паспорт на имя и фамилию азербайджанца, по-азербайджански он говорил чисто, и поездка в Баку не составляла для него проблемы. Договорившись обо всём, назавтра же поехали в аэрокассу и купили билеты на двенадцатое января.
Роберт в конце концов меня уломал:
– С твоей специальностью ты здесь вряд ли найдёшь работу. Там, в Баку, ты же сам помнишь, сколько раз приходил ко мне в министерство связи, я писал какие-то дурацкие отчёты. Ну а теперь чем занимаюсь? Торгую в ларьке: подай, возьми, подай, возьми. Работёнка лёгкая, а вдобавок никакого раздражения, наоборот, я вполне доволен. Если дело так пойдёт, какая там Америка, какие там Мичиган и Лансинг? Поезжай, сними свои деньги, а как вернёшься, мы тут же, у метро, присмотрим и для тебя местечко. Без денег, скажу прямо, ничего не выгорит, надо по меньше мере восемь–десять тысяч долларов. Поезжай поскорей и долго не задерживайся. Рене-то звонишь? Или позабыл уже?
– Позабыл, – ответил я в тон ему.
– Да ну? – Роберт с сомнением взглянул на меня и улыбнулся. – Раза два я видел, как она, Лео, на тебя смотрела. Когда женщина или девушка смотрит на кого-то таким очарованным взглядом, значит, прочие три миллиарда мужчин на земном шаре для неё не существуют. Такая любовь, братец, Божий дар, а ты шутки шутишь – позабыл. Её разве забудешь? Ладно, не хочешь – не говори. Короче, пока ты вернёшься, я со здешним начальством условлюсь. Это я беру на себя.
Маме за два часа до отъезда я коротко сказал:
– Еду в Баку.
– В Баку? – испуганно спросила она, словно речь о поездке туда зашла впервые. – Когда? – в её голосе чувствовалась неприкрытая тревога. – А что вообще говорят, какая там обстановка?
– Нормальная, какая ещё, – спокойно сказал я. – В газетах ничего не пишут, по телевизору ничего не показывают.
– Неужто нашей прессе можно верить? Во время сумгаитских событий тоже ничего не писали и не показывали.
– Ну, тогда и сейчас – резные вещи, – попробовал я приободрить её. – Старых ошибок обычно не повторяют.
Я снова и снова вспоминал слова Роберта о Рене. «Шутки шутишь, её разве забудешь?» При мысли, что вскоре увижу Рену, голова моя шла кругом от счастья.
– Ради Бога будь осторожен, – напоследок опять остерегла меня мама. – Как сделаешь своё дело, быстро возвращайся, нельзя там оставаться.
И вот упрямо и монотонно гудит самолёт, иной раз его встряхивает и тяжело покачивает, это двигатели с монотонным своим рокотом расщепляют бескрайнее небо. Прав ли я, что не послушал на этот раз маму и проигнорировал её предостережение? Ждать ясности недолго. Ведь откладывать уже нету сил, мама третий месяц твердит: обожди, и я, боясь её расстраивать, оттягивал отлёт со дня на день. А теперь кончено, тянуть невозможно, на жизнь и оплату комнаты нужны деньги. Правда, тянул я не только из-за маминых увещеваний и поисков работы, а главным образом из-за царившей в Баку неопределённой ситуации; кроме того, мы давно сдали в посольство бумаги на убежище в Америке и ждали ответа. Чуть ли не через день, как и до сдачи анкет, я наведывался в посольство, где сотни таких же, как я, бывших бакинцев собирались, чтоб узнать, когда нас вызовут на интервью, которое почему-то откладывалось и откладывалось.
Я смотрел в иллюминатор; внизу, под ускользающими назад белокрылыми лоскутьями облаков, пониже альпийских лугов и горных склонов серебряными нитями тянулись речки. Тут и там виднелись одинокие потерянные в тумане деревушки, казавшиеся с высоты покинутыми.
– У вас свободно? – спросил мелодичный женский голос. В проходе приветливо улыбалась хорошо сложенная молодая женщина лет двадцати – двадцати пяти с блестящими каштановыми волосами. Гофрированный костюм синего шёлка подчёркивал её изящество и смуглую кожу.
Я оглянулся. Зармик увлечённо беседовал с кем-то в задних рядах.
– Садитесь, – кивнул я.
– Спасибо. – Медленно раскрывающиеся при улыбке губы таили в себе нечто притягательное. – В переднем салоне очень шумно, – мелодично произнесла женщина, устраиваясь в мягком кресле. – Подальше от двигателей спокойно. – Секунду-другую помолчав, она печальным голосом продекламировала:
– Прощай, Баку! Тебя я не увижу.
Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг.
– Вы бакинка? – спросил я.
– Была бакинкой, – сказала она с какой-то застенчивой полу-улыбкой; в её ответе звучало сожаление. – Еду оформлять обмен. Удобный вариант. У нас четырёхкомнатная квартира в новом кооперативном доме, в самом центре.
– Где именно?
– На улице 28 апреля. В том девятиэтажном здании, где аэрокассы, на шестом этаже. Только что сделали ремонт. Меняем на две комнаты довольно далеко от Москвы, в Обнинске. Первый этаж, без балкона, пол бетонный, представляете? Что поделаешь, другие и этого не находят. Меняемся с азербайджанцем, жена у него русская. Надо встретиться с младшим братом этого азербайджанца, оформить бумаги, хозяин дал доверенность на имя брата. Вы тоже из Баку?
– Да. Работаю в комитете по радио и телевидению.
– Правда? Наша соседка тоже там работает. Вы в какой редакции?
– Армянских передач.
– Значит, вы должны знать мою маму, Розу Григорян. Она работала в Верховном суде, член коллегии. Прежде из армян там был Арутюнов, потом Арушанов, позже Василий Ананян. После того как Ананяна убили, членом коллеги стала моя мама.
– Конечно, знаю, – сказал я. – Мы даже передачу о ней давали. Её родители из карабахского села Каракшлах, но позже бежали в Зардахач Мартакертского района.
– Верно, мама там и родилась, в Зардахаче. Мы, получается, знакомы. Меня зовут Карина.
Я тоже назвался и добавил:
– Поедемте из аэропорта вместе, мы вас подбросим до дома.
– Прекрасно, – обрадовалась Карина. На миг её зубы блеснули белизной. – Муж очень беспокоился. Ему не удалось вырваться, только-только кое-как устроился на работу. Говорят, есть негласное указание – беженцев не прописывать и не брать на работу. Просто ужас. Вы останетесь или вернётесь в Москву?
– Вернусь, – ответил я. – Я ненадолго.
– Я в аэрокассах знаю почти всех девочек. Если понадобится, помогу с билетами, – с детской готовностью и непосредственностью предложила она.- Можете не беспокоиться.
Я долго раздумывал, сказать ей о Рене или не стоит. Наконец решил открыться и попросить у неё помощи.
– Я вам помогу, – сказала она, дружески положив ладонь на мою руку. – Позвоню ей, приглашу прийти к нам домой. – Нет, – она быстро поправилась, бросив на меня заговорщический взгляд. – Я дам ей номер своего телефона и скажу, чтоб она позвонила мне откуда-нибудь. Так надёжнее. Я ей всё объясню. Завтра в котором часу вам удобно? Я передам ей, и она придёт в это время. Запишите мой номер – 93-81-44. Дом вы знаете, второй подъезд, шестой этаж, дверь налево, квартира сорок три. В четыре часа вам удобно?
– Удобно.
– В четыре она будет у нас, не сомневайтесь.
«Боже мой, неужели завтра я увижу Рену?» – ликуя, подумал я, ощущая, с какой силой заколотилось в груди сердце.
Под самолётом расстелилась обозначенная красными огоньками взлётная полоса, шасси громыхнули, и бетон устремился навстречу.
На площади перед аэропортом мы взяли такси, Зармик подсел к водителю, мы с Кариной – на заднем сиденье.
– Высадим вас у дома, – сказал я ей. – Завтра в четыре увидимся.
Карина с улыбкой кивнула, и я вновь отметил про себя, что её медленно раскрывающиеся в улыбке губы по-настоящему притягательны.
– Я нахичеванский, зовут меня Закир, а ты откуда будешь? – по-азербайджански спросил водителя Зармик.
Водитель был человек немолодой, наполовину лысый; он крепко держал руль обеими руками, а его широко раскрытые глаза не отрывались от дороги.
– Из сабирабадских краёв, – откликнулся он, искоса взглянув на Зармика. – Из жаркого Сабирабада, края арбузов и сладких гранатов.
– Как по-твоему, – незаметно подмигивая мне, спросил Зармик. – Эти армяне чего хотят от нас?
– Эх, – ответил водитель с болью. – Нас жалко, их тоже жалко. Надувают нас всех, с толку сбивают. Апшеронский секретарь Зограб Мамедов что ни утро беженцев из Армении сажал в автобусы и отправлял в Сумгаит, на митинги. Не просто так, ясное дело. Сколько раз я своими глазами видел эти караваны – битком набитые автобусы и грузовики. По телевизору сказали и в газетах написали, мол, секретарь ЦК Гасан Гасанов стал в Агдаме на колени перед толпой – не ходите, мол, бить армян. Вроде как армяне ягнята, а наши волки. А русский поэт Евтушенко, наивный чудак, стихи посвятил Хураман Аббасовой. Будто бы та платок с головы сорвала и бросила под ноги толпы, и толпа остановилась, не пошла на армян. Враки. Потом выяснилось, ещё как пошла, несколько тысяч душ, дошли до Аскерана, кто из армян встретится, тех избивали да калечили, любую постройку рушили да сжигали. Я своим коротким умишком так мыслю – раз уж они всё-таки двинулись дальше, то, стало быть, Гасанов и Аббасова их не останавливали, а науськивали, подучивали, что да как делать. Этот вывод самый верный, потому как побоище в Сумгаите, что нас на весь мир оскандалило, с того похода началось. – Он перевёл дух. – Ай киши*, трудовому люду не всё одно – армянин ты, русский или грузин? Мне что, не всё равно, кого везти в аэропорт или оттуда в город. Ежели платят, то и Аллаха шукюр**, благодарствую. Вон азербайджанцы приехали из Армении, в городе ими кишит. Я вам вот что скажу. Отсюда, из Баку, кто уезжает? Уезжают из благоустроенных своих домов известные врачи, вузовские преподаватели, деятели науки и искусства, учителя, музыканты, люди с именем, мастеровые с золотыми руками. Ну а сюда из Армении кто приезжает? Рыночные торговцы, спекулянты да тёмные крестьяне из дальних деревень, только и знающие, что держать овец и коров. Они поди за всю жизнь и бани-то не видали. Хотите,
соглашайтесь со мной, хотите, не соглашайтесь, они для нас чужаки. В длинных своих папахах, небритые, насквозь провонявшие скотом… А с другой-то стороны, здешних армян в Ереване не больно привечают, «перевёртышами» зовут – шуртвац… В магазине им иной раз и хлеба не продадут, требуют – по-армянски говори. Коль языка не знаешь – оставайся голодный, так выходит. Оттого те уезжают в Россию, в Америку. Не по-людски это.
– Не по-людски, – серьёзно сказал Зармик. – Говорят, идёт Горбачёв по Карабахскому вопросу к Сталину – дескать, помоги ради бога. Сталин, не долго думая, предлагает объединить Азербайджан с Арменией, а столицей сделать Магадан.
Водитель рассмеялся.
– Ада, валлах , хорошо сказал. Очень даже хорошо, с нами так и надо. В далёкие-то времена случались деньки наподобие нынешних. Встречаются в лесу двое с маузерами за поясом и крестьянин. «Большевик или меньшевик?» – спрашивают. Крестьянин думает: скажу меньшевик, а вдруг те большевики, пристрелят, скажу большевик, а вдруг те меньшевики, сызнова прихлопнут. Он и говорит: «Не большевик и не меньшевик, я щенок той собаки, что у вашей двери привязана». Те двое захохотали, пришпорили лошадей и ускакали. Нынче такие же смутные времена.
* Ай киши — эх, друг ( азерб.).
** Аллаха шукюр — Слава Богу (азерб.).
Возле посёлка Раманы машина свернула влево и, с лёгким урчанием одолевая подъём, помчалась к городу.
– Когда Брежнев последний раз в Баку приехал, что на этой дороге творилось, что творилось! – сказал водитель. – У холуйства тоже границы должны быть. Алиев Брежневу, будто тот не хозяин огромной страны, а жена или там любовница, на палец перстень надел. А весь мир смотрит и диву даётся. И ведь не простой перстень, а чистой воды бриллиант ценой, говорили, двести двадцать шесть тысяч рублей. Рассказывают, заказали перстень, а про деньги за него – молчок. Директор ювелирной фабрики, говорят, обивал двери ЦК, а потом обнаружили его у себя в кабинете, повесился. А может повесили, кто знает. Нет, что ни говорите, у всего на свете границы должны быть. Алиев пообещал, мол, встречать Брежнева выйдет миллион народу. Чего ради? Кому нужны все эти переходящие знамёна, что ему вручали, липовые ордена да звания, когда народу жрать было нечего, в магазинах пусто, хоть шаром покати! Я сам подсчитал по газете, за время пленума Алиев имя Брежнева сто семьдесят раз произнёс: и тебе самый выдающийся деятель двадцатого века, и тебе «новый Ильич», это вроде как Ахундов, тот Хрущёва «новым Лениным» назвал. Не иначе потому, что оба были лысые, – засмеялся водитель. – Валлах, весь вечер и всю ночь из города и районов, что поближе, свозили народ автобусами, грузовиками, нашими такси. Вы представляете, что такое миллион человек от аэропорта до города и по обе стороны дороги? И как назло, с утра такой ливень обрушился, настоящий потоп. И на всей дороге – сами видите – совсем укрыться негде, ни дерева нет, ни куста. Брежнев сильно припоздал и в десять утра со своей свитой – вшшш, промчался. И на эту массу народу всем наплевать. Ни капли воды, чтобы попить, ни туалетов. И тащись двадцать пять километров пешком до дому. Поглядишь и не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать …
Мы с Зармиком договорились встретиться завтра в четыре у Карины. Сойдя с машины, я не встретил во дворе ни души и поднялся к себе.
В лицо ударило затхлым запахом давно не проветриваемого помещения. Я намеревался позвонить Сиявушу, главному, другим ребятам и хотя бы услышать голос Рены. Но телефон не работал. Я походил по комнате, не зная, чем заняться. Лучи закатного солнца проникали сквозь оконное стекло и падали на диван, книжный шкаф, письменный стол, на которых осела пыль в палец толщиной. Со стороны дома правительства доносились голоса, там стоял шум, иногда взрывались аплодисменты. Я долго смотрел из окна; некогда любимый и родной город казался чужим. Было видно море, где мы с Реной катались на прогулочном катере, был виден и парк имени Кирова, где на холме сфотографировал нас двоих корреспондент «Азеринформа» Яшар Халилов. А перед тем мы вдруг угодили под проливной дождь. День был солнечный, и сразу, нежданно-негаданно загрохотало небо, так же нежданно-негаданно полил дождь. Мы не успели даже добежать до аллеи. Покамест укрылись под деревом, порядком вымокли. Дерево оказалось клонившейся к земле оливой, оно почти не защищало от дождя. Я боялся, что Рена простынет, а она беспрестанно веселилась и раз за разом выталкивала меня плечом из укрытия.
В эти минуты она была на редкость обворожительна и желанна. Я обнял её, но, ловко извернувшись, она выскользнула из моих объятий и сию же секунду очутилась под ливнем. Беззаботно смеясь и подставив лицо под проливные струи, Рена раскинула руки по сторонам и кружилась на месте; чувствительный её носик был умилительно наморщен, приоткрытые губы обнажали бриллиантовый блеск белейших зубов. «Рена, простынешь, довольно же!» – я повторно затащил её под дерево, с неё стекала дождевая вода, промокшее платье прилипло к телу, подчёркивая восхитительные бёдра, упругий стан и дивную округлость груди. Рена всем телом тесно прижалась ко мне и, неспешно убирая волосы назад, исподлобья следила за мной смешливыми, полными тайны глазами. Тело у неё было тёплое, мягкая, как свежая сдоба, грудь и вовсе пылала жаром. Дождь не прекращался, я взял Ренино лицо в руки, губами легко скользнул по её губам. Под прохладным ветерком и не слабевшим дождём это доставляло непередаваемое блаженство; Рене, похоже, тоже нравилась эта игра… Едва соприкасаясь, наши губы непрестанно скользили поверху, наше дыхание, мало-помалу становясь чаще, сливалось, однако мы не целовались, отнюдь, я с превеликим усилием растягивал это наслаждение. Доведённые волнами страсти до пароксизма, мои губы выдержали ещё сколько-то мгновений; наконец, уже не в состоянии сдерживаться, воспалённые мои губы нетерпеливо впились в страстные губы Рены… Я целовал её с неутолимым исступлением, даже, пожалуй, грубо, прямо-таки кусал припухлые её губы, и, не в силах ни слова вымолвить, она молила меня глазами не делать этого. Я стал целовать её совсем иначе – нежно, с паузами – и смотрел на неё с некоей отвлеченностью, поскольку глаза не верили, просто не могли поверить, что сейчас, в эту самую секунду губы слиты с её трепетными розовыми губами. Словно потрясённый происходящим, язык отнялся, в ушах шумело из-за непривычного тепла. Тепло просачивалось или проникало под кожу, кровеносные сосуды разносили его по всему телу, и я всецело подпадал под обаяние сладких грёз.
Я без устали целовал Рену, Рена отдавалась моим поцелуям самозабвенно и нежно, подаваясь вперёд и буквально вжимаясь в меня… Господи Боже, какое это было невыразимое блаженство, как обворожителен был этот райский дар под льющим как из ведра тёплым дождём.
Дождь оборвался так же внезапно, как и начался, сквозь мелкие листья оливы к Ренину лицу пробился яркий солнечный луч, она сощурилась и залилась дивным смехом, я обнял её пахнущие теплом голые плечи, и мы вышли из парка. Здесь, у гостиницы «Москва», на взгорке, я случайно заметил Яшара с фотокамерой на груди. Он вышел с пресс-конференции. Я попросил его снять нас.
Поначалу Рена стояла справа от меня, потом быстренько поменяла место, стала по левую руку, чтобы сняться ещё разок, и сказала со смехом: «Так я ближе к твоему сердцу». Сказала негромко, но Яшар услышал, улыбнулся, сделал ещё один снимок. Спустя два дня, когда я показал Рене цветные фотографии, она сперва зачарованно их разглядывала, потом неожиданно надулась. «Как это так? – упрекнула она меня. – Я улыбаюсь, как легкомысленная девчонка, а ты на обоих снимках такой чинный, степенный, словно вовсе не рад со мной фотографироваться. Не мог одёрнуть меня, чтобы держалась посерьёзней? Что люди скажут?» «Да что ж они скажут? – прижав её к груди, засмеялся я. – Лишь одно. Какие у этой красавицы красивые волосы, какие красивые глаза, красивая улыбка и красивый талисман». «Ты прав, – искренне обрадовалась Рена. – Талисман виден очень отчётливо. Это главное». В её голосе прозвучал улыбчивый восторг. «Смотри, – сказал я. – Весь город как на ладони: приморский парк, Девичья башня, наш телерадиокомитет, “Новый интурист”, море. Годы спустя посмотрим и вспомним, до чего ж это было нам дорого и близко». Вот что сказал я тогда Рене. Тёмные тенистые аллеи, где мы целовались вдали от чужих глаз, и ныне стоят, как ни в чём не бывало. Неодолимая ностальгия по этим издавна знакомым и родным местам сжала мне сердце, перевернула душу. Бог мой, неужели всё это было наяву и завтра я повстречаю мою ненаглядную, бесподобную Рену?
Я включил симфоническую музыку. Мёртвая квартира мигом ожила, обрела дыхание. Переливы и рокоты мелодии, подхватив, унесли меня в иной, изумительный и фантастический мир с внезапными его громами, тёплыми проливными дождями и звездокрылыми хлопьями снега, и звенели бубенцы на шеях пасущихся на лесной опушке коров… Сменяли друг друга бесчисленные видения: то мы с Реной на пляже в Бильгя, то в Набрани, то гуляем с ней по приморскому парку, а я шепчу ей тихие слова любви. Мелодия временами слабела, затихала в шелесте листвы, временами легко и бодро взмывала ввысь, реяла и низвергалась, как водопад, временами, ветерком пробегая по лесу, баюкала его, а мы с Реной брели по этому лесу, и красноклювая птаха специально для Рены рассыпала свои трели, и под лёгким шелестом ветерка деревья колыхались, постанывали наподобие струнного оркестра, и весь этот поток звуков, их раздирающие душу волны и валы, всё это было не где-нибудь, а во мне, внутри меня…
Я поздно лёг, а поутру проснулся, разбуженный странными голосами.
Плотная толпа демонстрантов с грозными кличами двигалась в сторону моря, к Дому правительства.
Одевшись и выпив чашку кофе, я направился в сберкассу. Сдал сберкнижку и принялся ждать. Сотрудница с моей книжкой в руке поднялась по деревянной лестнице на второй этаж и через некоторое время вернулась. В её ко мне обращении сквозила подчёркнутая любезность. Она нашла мою карту, выписала на бумагу сумму – 40917 рублей – и протянула бумагу мне.
– Заполните расходный ордер, – сказала она с той же демонстративной любезностью, – и приходите после перерыва, в три часа.
«Получу деньги, куплю белых роз и прямиком к Карине», – предвкушая скорую встречу с Реной, воодушевлённо подумал я, и при мысли, что наяву и скоро, совсем скоро увижу Рену, мне захотелось отблагодарить эту добрую и такую любезную женщину. Получу деньги, решил я, и непременно оставлю ей рублей двести.
Без нескольких минут три я уже был у сберкассы. Сверху, со стороны Арменикенда, по проспекту Ленина спускалась многолюдная толпа, напоминавшая вышедшую из берегов многоводную реку. Раздавались истеричные выкрики: «Карабах наш, Карабах наш», «Аллаху акбар, аллаху акбар, ордумуз дахима олсун музафар»*, «Да здравствует Турция!», «Верните Алиева». «Слава героям Сумгаита!». В толпе мелькали женщины и подростки. Я быстро пересёк улицу и у входа в сберкассу увидел на лестнице ту самую женщину, которая так любезно ко мне отнеслась. Она не отрывала взгляда от толпы, и вдруг я заметил, что глазами она показывает на меня. Длилось это каких-то полсекунды; тут же, поняв сигнал, от толпы отделились несколько человек и кинулись ко мне. Всё произошло до того быстро, что я не успел даже снова посмотреть на ту женщину. Первый удар опустился мне на голову. Я ощутил на щеке кровь. Отталкивая друг друга, каждый из напавших жаждал ударить меня самолично. Новый удар они нанесли в лицо, при этом, странная штука, мысль моя работала чётко и безотказно. «Убивают, – подумал я, – сейчас убьют».Не было ни страха, ни ужаса. Вдобавок я вовсе не чувствовал боли. Удары сыпались отовсюду. Пихая меня, падая со мной и подымаясь, они выталкивали меня на середину улицы. Вот ударили чем-то твёрдым по левому глазу, почудилось, что глаз лопнул, я попробовал открыть его, понапрасну. В толпе наперебой орали, бранились, я, однако, ничего не разбирал. Били со всех сторон, и рот наполнился солёной кровью.
Я вновь ощутил тёплую струю крови, но на этот раз она текла по телу. Кто-то занёс надо мной железный прут, я успел за долю секунды зафиксировать этого типа – долговязый, со слюнявым ртом и злобнвым оскаламкалом, «Эрмяни сян- олмяли сян»* злобно сказал он с размаху рассёк прутом воздух; я увернулся, прут опустился на чью-то голову, тот со звериным воплем повалился наземь. Очередной удар – я почувствовал, это был не железный прут – пришёлся мне по руке; кольцо слетело с безымянного пальца и покатилось в сторонку, за ним устремилось двое-трое.
Я попытался воспользоваться шансом, оторваться от громил, да не тут- то было. Меня держали и били сразу трое. Я резко развернулся и в краткий этот миг увидел женщину из сберкассы; стоя на лестнице, она с улыбкой
———————————————————-
*Аллаху акбар, аллаху акбар, ордумуз дахима олсун музафар» (азерб.).- Аллах высевышний, Аллах всевышний, пусть армия наша будет магучей.
**Эрмяни сян- олмяли сян» » (азерб).- Раз армянин- должен умереть.
наблюдала за интересным зрелищем. «У них это подстроено, – молнией мелькнуло у меня в голове. – Они всё знали заранее». Неописуемое бешенство придало мне сил, я рванулся, двое на миг отцепились от меня и упали, но третий удерживал что было мочи, не давая бежать. Я был в расстёгнутой импортной куртке и просто-напросто выскользнул из неё и заодно из пиджака, те остались в руках у парня, который держал меня. Воспользовавшись мгновенной неразберихой – трое увлеклись исследованием карманов моей одежды, другие приводили в чувство валявшегося в крови приятеля, прочие искали кольцо, – воспользовавшись этим, я метнулся в ближайшую подворотню. Опомнившись, ватага с улюлюканьем припустила следом, искавшие кольцо к ним присоединились, но в чужой двор не полезли, шумели себе у ворот. Они, должно быть, не знали этих мест, понятия не имели, что двор сквозной и выходит ещё и на проспект Ленина.
Утирая с лица кровь, я выбежал на противоположную сторону и опрометью кинулся к восьмому отделению милиции, стоявший у входа в которое милиционер безучастно взирал на происходившее. Было ясно, что единственный способ спастись – откреститься от своего армянства.
– Я не армянин, – выпалил я, подбежав к милиционеру, – меня приняли за армянина.
– Сегодня всякое возможно, – сказал служитель закона, подтолкнул меня к соседнему подъезду и закрыл за мной дверь.
Я слышал, как, подбежав к нему, мои преследователи спросили:
– Не видел тут армянина?
– Нет, – ответил милиционер.
– Он убежал куда-то сюда.
– Нету здесь никаких армян, – отрезал милиционер.
В ту же минуту в двух шагах от подъезда толпа нашла новую жертву. Через дверную щель я видел, как десяток ног топтал упавшего на асфальт человека. Что до моих преследователей, они погнались за очередной добычей.
Я кое-как держался на ногах, подпирая спиной холодную стену подъезда. Колени буквально ходили ходуном, я знал – если сесть или упасть, уже не подняться. Дрожал всем телом, трясся, зуб на зуб не попадал. И было не понять, от холода это или от ран.
– Ты ещё живой? – быстро войдя в дверь, спросил милиционер.
– Угу, – кивнул я, – живой.
– Сейчас вызову скорую помощь. Как машина подойдёт, я мигом открою дверь, и ты сразу полезай в неё. Понял?
– Понял.
Милиционер спешно вышел, я по-прежнему держался в той же позе. По проспекту Ленина, потрясая над головами отливающими белизной металлическими прутьями, спускалась новая толпа. Бессчётная, неисчислимая, воющая стая зверья, конца ей не было видно, она шла и шла, от её воплей и криков, ора и шума стены тряслись. «Да здравствует Турция!» – неслось окрест, «Горбачёв с нами».
«Режьте армян», «Армяне, вон!», «Смерть армянам», «Слава городу-герою Сумгаиту!»… Кого-то повалили наземь, потом несчастный очутился над толпой и продвигался по ней точно вплавь с безумными глазами и неестественно разинутым ртом. Этого молодого парня видно было секунду-другую, потом его швырнули под ноги, вокруг сгрудилась орава, потопталась на месте, и через минуту парень лежал на земле в луже крови.
Из дома, примыкающего к кинотеатру «Шафаг», напротив отделения милиции, с грохотом выбросили пианино, а следом кресло с седой женщиной в нём. Она с криком шлёпнулсь об асфальт в двух шагах от кресла; вся в крови, женщина шевелилась, ползла и, видимо, парализованная, пыталась подняться. Двое парней, ухватив её за волосы, поволокли к пианино и с хохотом – это было видно и даже слышно – привязали к нему. Кто-то плеснул бензина, и они, женщина и пианино, сразу же запылали. С балкона второго этажа с гвалтом и гоготом кидали в костёр домашнюю утварь и книги. С улицы и из окрестных домов до меня время от времени доносились отчаянные, душераздирающие вопли. Ватага парней окружила у кинотеатра старуху, казалось, они спокойно беседуют, я видел это, но спустя минуту-другую парни отошли, а старуха лежала на тротуаре. Снова раздались истошный женский крик, безутешный детский плач и выстрелы.
В дверную щель я разглядел карету скорой помощи, водитель быстро отворил заднюю дверцу, а милиционер так же быстро – дверь подъезда, и я каким-то подобием прыжка нырнул в машину. Позже я поражался да и теперь ещё поражаюсь – откуда в обессиленном и потерявшем столько крови человеке взялся такая прыть?
Водитель скорой помощи, не закрывая задней дверцы, сорвался с места и повёл машину по встречной полосе.
– Звери, – сказала врач скорой помощи, русская, – звери в человечьем обличье. – Повернулась ко мне и сочувственно покачала головой: – Потерпите, скоро доедем.
Между тем силы покидали меня, как если б я истекал кровью.
У комитета партии района Насими раздался надрывный крик ребёнка. Машина резко свернула с проспекта Ленина на улицу Сурена Овсепяна и помчалась вверх. И снова шум и крики. Я прижался было к окошку и тотчас отпрянул в ужасе. На перекрёстке улиц Овсепяна и Бакиханова с верхнего этажа выбросили одноногого инвалида, я видел, он летел вниз головой, судорожно сжимая костыль. В Ереванском переулке у ресторана «Муган» лежал человек. Он медленно на четвереньках сдвинулся с места, поднялся, простоял какое-то мгновенье весь в крови и ничком, точно срубленное дерево, рухнул, простирая руки вперёд.
Возле дома культуры имени Шаумяна машина свернула влево и по Четвёртой Нагорной улице, прямо по трамвайным рельсам устремилась к больнице имени Семашко. Между домами подростки тащили телевизор, а тут и там неподвижно лежали люди. На пересечении улицы Самеда Вургуна близ исполкома района Насими с балкона и из окон четвёртого этажа швыряли разного рода скарб, а толпа внизу, стар и млад и даже бабёнки с крашенными хной волосами рвали друг у друга чемоданы, ковры и бежали с добычей прочь. Это происходило словно бы не наяву, а во сне, жутком, кошмарном сне.
Я всё время думал, как мне представиться в больнице. Называться армянской фамилией было небезопасно, а скрываться под чужой фамилией не хотелось. Удивительное дело, меня страшила не столько смерть, сколько смерть в безвестности, с чужим именем. В конце концов я надумал перекроить свою фамилию так, чтобы любой знакомый сразу догадался, кто это.
– Национальность? – Таков был первый вопрос, заданный мне в приёмном покое больницы Семашко.
– Еврей, – ответил я. – Адунцман Лео.
– Отчество?
– Леонидович, – уверенно сказал я.
Врач, мужеподобная дебелая женщина, выкрашенная хной, недоверчиво смерила меня взглядом.
– Хорошо, – сказала она и, повернувшись к кому-то, распорядилась: – Позовите кого-нибудь из врачей-евреев.
– Зачем?
– Пусть поговорят с ним по-еврейски, – был ответ.
Было ясно, что речь идёт о европейских евреях, которые говорят на идише, основанном на каком-то диалекте немецкого языка. Это вовсе меня не смутило. Некогда я вознамерился прочесть «Фауста» в оригинале, несколько месяцев кряду всерьёз штудировал немецкий, даже выучил наизусть «Мариенбадскую элегию» по-немецки. «Евреи народ умный, – подбодрил я себя, – произнесу несколько слов, они сразу смекнут, в чём дело, и помогут».
Санитар, посланный с поручением, вернулся ни с чем.
– Все евреи смылись по домам, – сказал он.
– Все? – строго спросила врач.
– Все, – стоял на своём санитар.
– Ладно, – немного подумав, уступила крашеная. – В понедельник выясним. Они же так или иначе явятся на работу.
С меня сняли всю вымазанную кровью одежду, взамен же ничего не дали. Я остался в одних трусах и босой. Стоял в холодной приёмной, а голова и бока по-прежнему кровоточили. Кругом галдёж, плач и стоны.
– Бу эрманиди*, – внезапно взвизгнула одна из медсестёр, тыча пальцем в мою сторону, – эрманиди.
Худое лицо и буравящий взгляд медсестры показались мне тоже знакомы, только вот где ж я видел её?
———————————————————
*Бу эрманиди, эрманиди (азерб.).- Это армянин, армянин.
– Это армянин, – не в силах угомониться, прошипела медсестра, – говорю вам, армянин.
– Может, ошибаешься? – сказала ей другая женщина. – На нём живого места нет, как ты его признала?
– Она меня с кем-то путает, – из последних сил я попробовал защититься.
– Нет, он армянин, эрманиди, – с ненавистью твердила та.
Но коль скоро мою принадлежность к евреям исключить было всё-таки нельзя, меня, несмотря на протесты медсестры, отправили в хирургическое отделение.
Хирург был из горских евреев. Он безотлагательно занялся раной у меня на голове. Тут-то в его кабинет и вломилась упёртая медсестра.
– Это армянин, – опять завизжала она, – незачем ему повязку накладывать.
– Кого ко мне направлять – это ваше дело, а не моё, – невозмутимо возразил хирург, обрабатывая как ни в чём не бывало рану. – Но раз уж человек попал сюда, будь он хоть африканец, я сделаю всё, что надлежит.
– От пса родится пёс, от человека – человек, – глубоко вздохнув, сказал врач, когда медсестра ушла. – Вот от таких, как эта, никто, кроме зверя, не родится. Двуногого зверя, какими забиты сегодня бакинские улицы. Такие, как она, наплодили… Главное – обработать раны на голове, – довольно поздно пояснил он, – а раной на боку я заняться уже не успею, видишь, сколько народу?
Коридор являл собой жуткое зрелище – окровавленные, сходящие от боли с ума люди со следами побоев, издевательств и пыток, стоны, слёзы, рыдания.
– Преимущественно это ваши соотечественники, – сказал врач. – Боятся признаться, что армяне, но всё-таки ваши соплеменники. – И, помолчав, пробормотал, словно себе самому: – Боже, за что, за какие прегрешения ты караешь детей своих столь тяжкими карами?
Хирург наложил мне шесть швов на голове и ещё несколько под глазом и на подбородке.
Всё ещё раздетый и босой, я кое-как, цепляясь за двери, вышел в коридор и, спиной опираясь о стену, медленно убрался в сторонку. Было холодно, меня трясло, то ли сон одолевал, то ли мучили кошмары, неодолимо соблазнял, притягивал, манил к себе пол, однако я всё-таки держался на ногах. Мало-помалу остатки сил иссякли, коленки сами собой подкосились, и, усталый, ослабший, я опустился на пол и тотчас ощутил, как он холоден. Я так и сидел, голый и босой. Всё тело ломило, во рту пересохло. Но никому не было до меня дела. До ушей долетали обрывки разговоров, будто потерпело крушение судно, под завязку набитое армянами, в Первомайском переулке зарезали детей, там и сям похитили десятки совсем юных красивеньких армянок, чтобы вывезти в Турцию и сбыть в ночные клубы.
Я до смерти устал и обессилел от нескончаемых этих мук, непрестанных криков, плача, тяжких стонов и причитаний. Постепенно все эти крики, плачи, причитания и стоны сливались в отдалённый и неразличимый гул. Я чётко понимал, что сознание временами покидает меня, и чувствовал, что из раны слабо сочится кровь, чьё тепло даёт о себе знать. Позже почудилось, что кто-то произнёс моё имя. Я вздрогнул, потому что не называл его врачам. Меня подташнивало, голова стала горячей, набухла, в сладкой полудрёме я с предельной отчётливостью разглядел на лестнице сотрудницу сберкассы с её улыбочкой, едва заметное колыхание занавески овеяло прохладой лицо, между тем черты визгливой медсестры и женщины из сберкассы смешивались между собой, и сколько я ни силился, всё равно не разбирал, кто тут медсестра и кто та, что так обходительно и любезно обслуживала меня в сберкассе. Я пребывал в лихорадочном, бредовом, полуобморочном состоянии, временами забывая, где я, собственно, и что за шум вокруг; то мне мерещилось, будто я здесь давным-давно, а то, наоборот, – это тянется всего лишь один день. Разом стемнело, рассвело и снова стемнело, или ж это просто включают и выключают свет? Иной раз мне казалось, что меня собираются куда-то увести, что из-за меня спорят и ругаются. Сквозь пелену глубочайшего забытья мне виделась поодаль, близ окон, группа юношей и девушек в белых халатах. Я почему-то не сомневался – это студенты мединститута, и Рена среди них… Именно так, она была среди них, я видел её… только б она меня не заметила, не подошла… Чуть погодя мне показалось – я отчётливо слышу Ренин голос, Бог ты мой, я же не хотел, чтоб она меня видела в таком состоянии, не хотел. У меня не доставало сил открыть глаза и увидеть её, я только слышал её голос. «Я соскучилась по тебе,- сказала Рена, голос её слышался более чем ясно. – Соскучилась, – повторила она, – но ничего не могу поделать, я до тебя не дотягиваюсь…» Ренин голос отдалялся, почему-то мне слышалась в нём горечь. «Пошли со мной, – сказала она, – заберёмся на другую планету, туда, где другие законы, и люди тоже другие, совершенно не похожие на тех, что здесь…» Я силился встать и подойти к Рене, да только ноги не подчинялись мне. Далее вроде бы зазвучала траурная музыка, мне хотелось окликнуть, удержать Рену, но не выходило, губы не разлеплялись. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» – прошептал я, теряя последнюю надежду, и почувствовал, что по щекам текут крупные тяжёлые слёзы. Потом всё разом обрушилось, низвергнулось и погрузилось в непроницаемый мрак.
*******
Я пришёл в себя в больничной палате. Левый глаз не видел вообще, правый, наполовину заплывший, – только сквозь ресницы. Да, это была больничная палата – четыре койки, грубо оштукатуренные стены, с потолка на местами ободранном электропроводе свисала лампа в сто пятьдесят ватт. Две койки у правой стены, две у левой, все заняты, при каждой койке тумбочка. Я лежал справа от двери. Про себя я наделил своих соседей по палате порядковыми номерами. Слева от двери первый и, ближе к окну, второй, напротив второго, у правой стены, – третий. Сам я оказался четвёртым.
– Ай, Хафиз, глянь-ка, что сотворили с этим парнем, как отделали да разукрасили, – со смехом сказал номер первый, вставая с постели. – Валлах, будто тысяча пчёл его покусала.
– Страшное дело… Атаганын джаны*, Аллаверди, не приведи Господь быть в Баку армянином. И не только быть, но даже походить на него. – Это произнёс второй номер.
– Может, он уже концы отдал? – тот, кого назвали Аллаверди, осторожно подошёл и немного постоял около меня. – Да нет, вроде бы дышит. Молодой парень. Отдубасили его что надо. Должно быть, армянин.Вроде похож.
По тому, как прошаркали шлёпанцы, я понял, что он отошёл и сел на койку.
– Атаганын джаны, в городе жуть что творится, сплошные погромы и грабежи. Кое-кто, как в восемнадцатому году, за день миллионером становится.
Я уже различал их голоса; это был Хафиз.
– Верно, резня и грабежи знатные, – подтвердил Аллаверди, словно сожалея, что в такое замечательное время их угораздило слечь в больницу. –
Здесь что, в Карабахе – вот, где надо резать. В Агдаме одиннадцать тысяч вагонов оружия, против Ирана. Если столько в Агдаме, представь, в других-то местах сколько. Вот это оружие надо пустить в ход не в Иране, а против бунтовщиков-армян. Жанна Галустян, Зорий Балаян, Серж Саркисян, Роберт Кочарян, Максим Мирзоян, Манучаров, Игорь Мурадян – всех их надо вырезать и ограбить. Нужно тайком по одному уничтожить всех этих сепаратистов. Для такого святого дела денег жалеть не надо. Они мутят воду. Явились, мы их приютили на своей земле, теперь они надумали хозяевами там стать, к Армении присоединиться. Можно подумать, настоящие-то хозяева вымерли.
– Правильно говоришь, – одобрил его Хафиз. – Самолётами хачкары свои завозят, в лесах сбрасывают, а потом, дескать, смотрите, тут историко-архитектурные наши памятники.
—————————————————-
*Клянусь Атаганом (азерб.). Атаган-реальный человек по имени Мир Мовсум, живший в поселке Шувелян близ Баку, где и похронен. Считалось, что у него нет костей, об этом говорит его прозвище (Атага означает ,,состоящий из мяса,,. Слыл святым, его могила стала святилищем, у нее совершают жертвоприношения.
– Да брось ты, Хафиз, что ещё за памятники? Надо будет, взорвём, с землёй сровняем, как в Джульфе было, кому какое дело. Кто силён, тот и хозяин, у сильного всегда виноват слабый. Для слабака, для немощного нигде нет ни любви, ни спасения. Это не я сказал, Некрасов сказал сто с лишним лет назад. А мысль Аристотеля, мол, истина превыше всего – просто глупость. Нефть, к примеру, дороже истины. Так было, так и будет. Карабахский вопрос не только в том, чтоб удержать Карабах в руках Азербайджана. Неважно, что 1 декабря 1920-го Нариман Нариманов и Серго Ордженикидзе произнесли высокопарные речи, а Бакинский совет принял резолюцию, что Азербайджан добровольно отказывается от спорных территорий и передаёт Зангезур, Нахичеван и Нагорный Карабах советской Армении. По этому поводу, кстати, и Сталин выступил в «Правде». Это, Хафиз, была чистой воды дипломатия, создавалось общественное мнение. Вот и сегодня вопрос не только в том, чтобы сохранить Карабах в составе Азербайджана, но и в том, чтобы вернуть себе Зангезур и наконец-то достичь заветной цели – соединиться через него с нашими братьями. XXI век – век турок. – Аллаверди сделал небольшую паузу. – Наш век, Хафиз, потому что никакие мы не азербайджанцы, это всё выдумки Сталина, мы турки, асил* турки, и Эльчибей это подтверждает. Пьянство, наркотики, мздоимство и падение нравов погубили могущественную Византию и открыли тем самым дорогу туркам. Сегодня на краю столь же бесславной гибели стоит Россия. Александр Второй за семь миллионов долларов продал Аляску Америке. Более полутора миллиона квадратных километров с колоссальными запасами золота и рыбы за такую ничтожную плату. Чего ждать от подобного государства? Крым отдали Украине, сотни тысяч квадратных километров – Казахстану. Правая рука не знает, что делает левая. Территорию, в шесть раз большую, чем Карабах, да ещё богатую газом и нефтью в Беринговом море, Горбачёв и Шеварднадзе недавно подарили той же Америке. Ставь на России крест, нет больше России.. Её песенка спета, роста нет. Русское население за год уменьшается на два–три миллиона. Через пятьдесят–шестьдесят лет они не будут уже составлять большинство в своей стране. Да, в XXI веке нас ждёт большое будущее. Большое и светлое. Пока что под ногами у нас путаются манкурты-армяне… временные наши соседи…
– Как тут не посетовать? – вздохнул Хафиз. – И как только наши не покончили с ними в пятнадцатом–двадцатом годах… А теперь они снова голову подняли… 17 октября 1942-го турецкие войска должны были войти в Армению, армия Исмета Иненю стояла наготове у границы, да Сталинград испортил всё… Атаганын джаны, я бы на первом же телеграфном столбе повесил Зория Балаяна, вторым – Абела Аганбекяна, ну а потом Серо
—————————————————————
*асил (азерб.) – Настоящие, чистокровные
Ханзадяна, Брутенца, Шахназарова, Токмаджяна, Ситаряна, Кркоряна, Шарля Азнавура, Гюльбенкяна, Алиханяна, Хачатуряна, Капутикян…
– Больших людей у них столько, что у вас телеграфных столбов не хватит, – вмешался в разговор третий номер.
– А, так вы проснулись уже, – сказал Аллаверди. – А мы думали, спите.
– Если думали, что сплю, почему же так громко разговаривали? – сделал замечание третий.
– Простите, вы правы, – согласился Хафиз. – Атаганын джаны, валлах, совершенно правы.
– Меня зовут Мирали-муаллим. – Третий помолчал секунду и добавил: – Мирали Сеидов. Я работаю в Академии наук. А как зовут вас?
Хафиз и Аллаверди представились. Выяснилось, что Хафиз работает в таксомоторном парке, а вот Аллаверди – редактором в одном из издательств.
– Когда меня привезли, вы спали, – спокойно сказал третий. – Давно вы здесь?
– Пожалуй, недели две. Меня с Хафизом положили практически одновременно и выпишут, видно, тоже вместе, – широко улыбнулся Аллаверди. – Уже надоело, да и лечение подходит к концу. Лекарства и дома можно принимать.
– А у меня давление, – пожаловался третий, Мирали-муаллим. – Случается, за двести зашкаливает. Ужасно. Как схватит за шею, так и жмёт, того гляди, голову сорвёт. А этот вон товарищ, он кто? – Похоже, третий спросил обо мне. – Видно, состояние у него тяжёлое, всё время стонет, бредит.
– Кажется, горский еврей. Привезли часа два назад. За два дня с этой койки четверо ушли на тот свет. Все армяне, все избиты, жутким образом изувечены. Одного звали Володя, фамилия Саркисян, другой Михаил Саруханян, ещё один совсем старик, еле-еле душа в теле, глаз у него вышибли, звали его Галустом, по фамилии Налбандян. Ещё один был Пётр Налбандян. Имена у меня записаны, надо бы ребятам отдать.
– Ты посмотри, слово «налбанд» и то у нас украли, – хохотнул Хафиз. – Интересно, чем их кололи, что через пару часов – готов, отдал концы? Атаганы джаны, главврачу Джангиру Гусейнову надо бы дать звание национального героя. Точно вам говорю.
– Мы думали этот тоже ноги протянул, – засмеялся Аллаверди. – Ан нет, дышит.
– Ну, раз дышит, может, ещё не помер, – сострил Хафиз и сам загоготал над своей остротой. – Видно, здорово ему накостыляли.
На минутку все умолкли. Тех двоих я не видел, а вот Аллаверди стоял прямо напротив, его я разглядел. Губастый, с мохнатыми бровями, мутными глазами, торчащим кадыком и широкими ноздрями детина лет тридцати пяти, словно накурившийся гашиша. Жидкие волосы то и дело падали на лоб, иногда он убирал их назад. Говорил он медленно, слова точно нехотя падали из-под желтоватых прокуренных усов.
– Пойдём покурим, Хафиз, – предложил Аллаверди; по полу снова прошаркали шлёпанцы.
Увидел я и Хафиза – среднего роста, сухое, покрытое мелкими морщинами лицо и блестевшая под светом электролампочки лысина на вытянутой, как дыня, голове.
Они вышли. Настала затяжная тишина. Третий номер, должно быть, углубился в чтение, отчётливо было слышно, как он переворачивал очередную страницу.
– Йа аллахи бисмиллахи рахмани рахим*. Атаганы джаны, чего только не рассказывают, – вернувшись через некоторое время в палату,
воодушевлённо произнёс Хафиз. – На берегу, как в сентябре восемнадцатого,
суматоха, всё перемешалось, родители детей не находят, брат сестру, жена мужа. У кого не нашлось денег пробраться на пароход, ополоумев, кидаются за ним вплавь по морю, потом идут ко дну. Армян поджигают и с верхних этажей швыряют вниз, убитых спешно собирают по дворам и улицам и вывозят на самосвалах, а у Сабунчинского вокзала, говорят, жарят шашлык из молодых армянок и пируют.
– А ты, Хафиз, ел шашлык из хорошенькой девицы? – смеясь в усы, спросил Аллаверди.
– Чего не ел, того не ел, – помотал головой Хафиз и двинулся к своей койке. – Занятно, каков он на вкус, – уже оттуда послышался его голос. – Атаганы джаны, ни из армянок, ни из свинины шашлыка не пробовал. – Он хохотнул. – Этого им ещё мало, надо их под корень истребить. Ну, может, оставить одного, чтобы в музее выставить, как говаривал кайзер Вильгельм.
– Позвонил я брату, – сказал Аллаверди. – Так он говорит, мемориал двадцати шести комиссарам в пыль и прах разнесли, меркуровские статуи разбили, вот уже два часа, говорит, ломают дверь армянской церкви, пока не поддаётся. Парни половчей поднялись на купол, выломали крест, влезли сверху внутрь и всё, что там было – все эти книги с крестами, иконы или что там у них, – всё вышвырнули на улицу и сожгли. Кто-то, говорят, углём на церковной стене большими такими буквами написал «Абщественни тувалет». Народ сгрудился, хохочет, аплодирует. Памятники Кирову и Ленину тоже скинули. Хотя, между прочим, отменные были памятники. Особенно памятник Кирову… Русские тоже бегут.
– Русские-то почему? – спросил Мирали-муаллим.
– Потому что понимают – с армянами покончат, придёт их черёд. Списки живущих в городе русских уже готовы. По специальному распоряжению они второй месяц не получают пенсии, в магазинах им, как и армянам, даже хлеб не продают. Так — то вот… Кому не известно, что
——————————————
*Йа аллахи бисмиллахи рахмани рахим (араб.). — Во имя Бога, милостивого, милосердного.
русский – извечный враг турка? Пускай проваливают с глаз долой в свою страну, это наша земля, на своей земле жить нам и никому другому. Говорят, все стены пестрят надписями «Русские, не уезжайте, нам нужны рабы». Неплохо, да? С моим братом дверь в дверь жили русские. Я раньше у брата жил, всех их знаю. Так вот, вышибли у них дверь, вошли, хозяина как следует огрели по башке, а жену, Галину Ильиничну, и дочку Ольгу, ей двенадцать лет, очень красивенькая, пальчики оближишь, вшестером изнасиловали. У них ещё дочка есть, Марина, четыре годика, её, пока дверь выламывали, успели спрятать под диваном на кухне, ну, те и не заметили. Ещё двух–трёх русских девушек изнасиловали в разных местах, несколько семей выгнали из квартир. В центре города одного убили – Александр Гаврюшин, сорок лет. Топором зарубили, он вроде бы пытался жену и дочку защитить, которых потом двадцать человек изнасиловали. Придурок он, тот русский, чего, спрашивается, против двадцати душ попёр? Из-за этого случая среди русских, говорят, возникла паника. Говорят, в сегодняшних газетах к ним обратился Бахтияр Вагабзаде – дескать, не уезжайте.
– И зря, – весело отозвался с места Хафиз. – Пускай катятся, ещё лучше. Дома-то и имущество нам останутся.
– Забыл сказать. У русских и зарубежных журналистов отнимают и разбивают фотоаппараты и видеокамеры. Вот это правильно. Не то пойдёт гулять по миру всякое враньё про нас. Ах да, – от души рассмеялся Аллаверди. – В Кировабаде снесли памятник маршалу Баграмяну, а памятник Шаумяну здесь повалили, на его место собаку привязали.
– Молодцы! – обрадовался Хафиз. – Получай, чрезвычайный комиссар по делам Кавказа, жри. Валлах, этого ещё мало. Мемориал двадцати шести комиссаров надо снести, надо с землёй сровнять и сказать – нету, не убивали, все восемь комиссаров-армян удрали в Индию.
– В Кировабаде из дома инвалидов вытащили двенадцать армян – одиннадцать баб и мужика – да и похоронили заживо километрах в сорока от города. На берегу Куры. Шестерых таким же манером у Аджикенда схоронили. Ещё говорят, что с вертолёта видели – в окрестностях Ханлара висельники на деревьях.
– Ай, молодцы, ай, здорово, – снова воодушевился и обрадовался Хафиз. – Надо б армянские кладбища разрушить, чтобы духу их тут не было. Правительство наше наверняка этим займётся.
– А что они себе думали! Подсчитано, в одном только Баку и окрестностях девяносто две тысячи домов и квартир освободятся, – сказал Аллаверди. – Каждой азербайджанской семье из Армении по три квартиры. Пускай живут и кайфуют в армянских домах. Хватит, отмучились под их властью. Профессор Вагиф Арзуманов разрушил стену, влез к соседям-армянам и вытурил их на улицу.
– Атаганы джаны, пора домой, мне тоже квартира нужна, – воскликнул Хафиз. – Сегодня же выпишусь. Горсовет принял специальное постановление – занимать жильё армян. Пойду приберу к рукам какой-никакой домишко.
– Послушай забавную историю, Хафиз. На втором этаже девятнадцать армян, женщины, мужчины, избитые, человеческий облик утратившие, набились в шестую палату. Ну-ка вообрази, девятнадцать человек, обезображенных, израненных, в пяти- или шестиместной палате. Настоящая душегубка, помощи никакой, совершенно никакой, наоборот, азербайджанцы, врачи и больные, приходят с разных этажей, поносят их последними словами и лупят почём зря. Два мужика и бабка восьмидесяти лет этой ночью концы отдали. Должно быть, от духоты или от жажды.
– А я что говорю? – оживился Хафиз. – Главврачу звание героя надо дать. Пускай все так и сдохнут. Слушай анекдот. Умирает один турок, зовёт муллу, смени, мол, мне веру, хочу стать армянином. Мулла меняет ему веру, тот испускает дух и напоследок говорит: «Вот и славно, ещё один армянин помер».
– Дверь они подпёрли изнутри койками и прочим, – продолжил Аллахверди, – забаррикадировались, чтобы наши к ним не входили. Карабах, видишь ли, захотели, миасун, миасун , – растягивая слова, закончил он. – Ну, вот и получите свой миасун*.
– Не миасун, а миацум, – поправил его третий номер. – Япония тоже, к примеру, хочет «миацум», требует вернуть Шикотан и другие острова Курильской гряды – Кунашир, Итуруп, Хабомаи. Почему же русские не режут японцев? Русские в Крыму устроили демонстрацию, требуют присоединить Крым к Российской Федерации. В Москве очень видные деятели, Лужков и другие, поддерживают их в этом вопросе. Почему же украинцы не режут русских в Крыму? Баски в Испании требуют самоопределения и независимости, но их в Испании никто и пальцем не трогает. То же самое с шотландцами в Великобритании. Примеров такого рода сколько угодно, всё это в цивилизованном мире в порядке вещей. На мирную демонстрацию в Степанакерте мы ответили сумгаитской резнёй, насиловали старух и детей. Какая связь между сумгаитскими бедолагами, армянами-рабочими, и митингами, которые проходили в сотнях километров от них? Никакой.
– В Аскеране убили двух невинных азербайджанцев, – попытался привести довод Аллаверди.
– Есть у тебя твёрдые доказательства, что их убили армяне? Нет. Потому как армяне их не убивали, их убили наши. Чтобы организовать бойню в Сумгаите, нужен был предлог. В день инцидента всё республиканское руководство было там – в Агдаме, в двух шагах от Аскерана, следующим вечером они в том же составе – Багиров, Гасанов, Сеидов, Асадов и другие -были уже в Сумгаите. Это вам ни о чём не говорит? А насчёт этих двух невинных азербайджанцев давайте будем честными, я вам задам вопрос. Что
—————————————————————-
*Миасун – Искажннное армянское слово, ,,миацум,, , означающее ,,воссоединение,,.
они там делали, их что, армяне на свадьбу в Карабах пригласили?
Многотысячная толпа шла громить мирное армянское население, и они шли в этой толпе. Тем временем армяне стояли перед обкомом партии и облисполкомом. И, не нарушая ни единого пункта Конституции – Основного закона советской страны, обратились к Верховным советам Азербайджана и Армении с просьбой – не требованием, а просьбой – присоединить область к Армении. Почему? Потому что в минувшие шестьдесят семь лет – и этого не отрицают ни политбюро, ни генеральный секретарь – непрерывно подвергались дискриминации. Права армянского населения постоянно ограничивались и попирались. Ни в дни сумгаитского кошмара, ни после армяне не позволили себе спровоцировать ответную резню, продемонстрировали такой уровень национального самосознания и гордости, который сравним с польским сопротивлением тоталитаризму. Вот это и есть величие нации, потому что измеряется оно вовсе не в количестве, как не измеряется ростом величие человека.
– Но ведь в Капане-то наших убивали? – сказал Аллаверди.
– Если мы серьёзные люди, – чрезвычайно спокойно возразил Мирали-муаллим, – и говорим всерьёз, то не должны опускаться до уличных пересудов и газетных «уток» иных борзописцев. Есть факты, и есть умозрительные предположения, это разные вещи. Нам подобает говорить языком фактов. И я как профессор, доктор наук и человек, проживший на свете семьдесят лет, знающий несколько языков и в их числе армянский, читающий армянских историков и прессу не в переводе, предумышленно исковерканном и сознательно искажённом, иными словами, тенденциозно перекроенном, а в оригинале, так вот, я со всей ответственностью заявляю, что в Капане не был убит ни один азербайджанец. Всё это ложь. После погромов в Сумгаите, Кировабаде и других местах в Гугарке, горном районе Армении, произошли столкновения, в ходе которых погибло несколько азербайджанцев и армян. Памятуя, что каждая смерть сама по себе трагедия, скажу – в Армении, где до этих событий проживало сто шестдесят одна тысяча азербайджанцев, погибли двадцать три наших соотечественников. Эта цифра неоднокоатно звучало у нас в перламенте. Именно столько. Между тем число убитых у нас армян исчисляется сотнями. Только в Баку, Кировабаде и Сумгаите, не считая Нагорного Карабаха и районов – Шемахи, Ахсу, Исмаиллы, Шамхора, Шаки, Дашкесана, Шаумяна, Ханлара и так далее, – только в этих трёх городах жило более полмиллиона армян, то есть втрое больше, чем азербайджанцев во всей Армении. Мой сын работает на высоком посту, не скажу где, но будьте уверены, он знает реальное положение вещей. Ну а то, что передают по телевидению и выдумывают в газетах, не имеет отношения к истине.
– Но вы же не отрицаете, что в восемнадцатом–двадцатом годах дашнаки творили насилия над нами, – сказал Аллаверди. – Один только Андраник как только не издевался над нашим мирным населением в Карабахе. Между прочим, это я включил известное стихотворение Расула Рзы против Андраника в первый том его сочинений.
– Во-первых, Андраник никогда не был в Карабахе, во-вторых, твои слова никак не связаны с нашим разговором, – в тоне Мирали-муаллима прозвучало некоторое раздражение. – Но я всё-таки отвечу. – Да, – подтвердил он, – я вовсе не отрицаю, что в Зангезуре были разорены тридцать азербайджанских деревень, не отрицаю, что зло порождает зло. Давайте вспомним содеянное нашими мусаватистами от Нухи до Баку.. Словом, в то время в Баку, то есть восемнадцатом году, как и сегодня, рушили и жгли армянские жилища, грабили их имущество и насиловали кряду детей от пяти–шести лет до семидесятилетних старух, и никто не смел схватить их за руку…
– В Сумгаите тоже такое бывало, – отозвался Аллаверди и широко, во весь рот зевнул. – На заседании политбюро, я читал стенаграмму, министр обороны Язов сказал, что в Сумгаите двум армянкам были отрезаны груди, одной голову, а с одной молоденькой девушки попросту содрали кожу. Наш народ, он такой – как почует запах крови, не знает удержу…
– О чем тогда речь?
– Как бы то ни было, армянам не следовало требовать у нас Карабах, – растянувшись на койке и снова смачно зевнув, сказал Аллаверди.
– Здесь я с тобой солидарен, – быстро сказал Мирали-муаллим. – Сейчас объясню почему.
Склонив голову набок, Аллаверди внимательно смотрел на собеседника.
–Во первых, скажу, что Карабах для нас это лишь территория, а для них — святая родина, во вторых, армянам не следовало требовать у нас Карабах, потому что Карабах, если честно, отнял у них отнюдь не Азербайджан – его в 1921 году подарила нам Москва. Точно так же в этом же 1921 году, согласно московскому договору, Арарат, как и некоторые другие армянские районы были переданы Турции взамен на Батуми, который был присоединен к Грузии. Поэтому, здесь я с тобой согласен, армяне должны требовать Карабах не у нас, а у Москвы, которая и спровоцировала национальные раздоры и вражду. Вот тебе новое тому доказательство – в Баку сегодня армян беспощадно убивают, а в Нагорном Карабахе, где нашли прибежище армяне из Сумгаита и других мест, Горбачёв ввёл паспортный режим и чрезвычайное положение. Да и сумгаитские погромы, я вам скажу, подстроили не азербайджанцы, а наша партийная мафия, повинуясь указаниям из Кремля. Почему погромы не были пресечены, почему армия три дня не вмешивалась и бездействовала? Почему по распоряженияю министра внутренних дел за несколько дней до погромов из тюрем выпустили семьсот уголовников? Ясно почему. Знаете, что ответил первый секретарь ЦК компартии Азербайджана Абдурахман Везиров одному из руководителей народного фронта, старшему сыну Самеда Вургуна Юсифу Самедоглы? Самедоглы передал ему, что в субботу тринадцатого января в городе ожидаются армянские погромы и следует предпринять срочные меры. В ответ прозвучало: «Ничего, пусть ребята немного порезвятся».
Мирали-муаллим немного помолчал.
– Вот что такое тщательно организованные погромы. Да, по всем признакам эти погромы организованы под прикрытием сверху. Перед нами последовательно проводимая имперская политика – разделяй и властвуй. Почему организаторы и исполнители сумгаитского геноцида, этого жуткого злодеяния не понесли достойной кары? Если б их примерно наказали, сегодня в Баку ничего бы не было. Руководство страны совершило не менее тяжкое преступление – массовое истребление армян в Сумгаите по национальному признаку было квалифицировано как обычное уголовное преступление. Почему возглавить расследование поручили тому, кто замешан в этом деле? Неужели кто-то сомневался, что Катусев в лепёшку разобьётся ради того, чтобы развалить дело? Кто даст ответ за такое головотяпство? Да никто. Потому что межнациональные распри и погромы затевают враги перестройки, они погубят и перестройку, и Горбачёва, как погубили в своё время Хрущёва, натравив его на интеллигенцию и тем самым лишив его самых надёжных единомышленников, тех, кто был благодарен ему за освобождение из лагерей. Разве не противники перестройки сделали так, что политбюро на закрытом заседании послало двух своих членов, Александра Яковлева и Егора Лигачёва, к нам в Закавказье? Яковлева – в Ереван, где тот заявил, что Карабах – историческая часть Армении, а Лигачёва – в Баку, где тот сказал прямо противоположное: «Карабах останется в составе Азербайджана». И тут сразу подняли голову организаторы Сумгаита и те, с обоих сторон, кто падок на дешёвую популярность у народа. Хотя на самом-то деле плевать им на народ. Только что кто-то из вас намеревался повесить на телеграфных столбах Зория Балаяна, Серо Ханзадяна и прочих… А что, Зия Буниятов, у которого, между прочим, первая жена была армянка, она-то во время войны и выходила в госпитале, спасла от смерти командира штрафной роты Буниятова, а потом родила ему сына, Бахтияр Вагабзаде, чья бабка тоже была армянка, Байрам Байрамов, Халил Рза, Гасан Гасанов, Сабир Рустамханлы, Зейнаб Ханларова, Азад Шарифов и другие, – что, все они так-таки безгрешны? В 1905 году, когда Николай Второй коварно столкнул лбами наши народы, и в восемнадцатом, после поражения Бакинской коммуны, достойнейшие сыны двух наших народов – Сабир, Ованес Туманян, Джабар Джабарлы, известный карабахский врач и поэт Левон Атабекян, которого убили, когда он шёл на переговоры с белым флагом в руках, – все они поднялись против дикости и осудили как инициаторов, так и организаторов розни. А что делают сегодняшние наши писатели и деятели культуры? Они заняты тем, что стравливают народы и возбуждают страсти. К несчастью, и армяне, и мы, азербайджанцы, постоянно выпячивают то, что нас разделяет, и совсем не задумываются над обратным, ибо того, что нас объединяет и связывает, гораздо больше того, что разъединяет. Ведь у нас, за ничтожным исключением, схожие обычаи, музыка, песни и пляски, кушанья, почитание родителей и вообще старших, уважение к женщине, нравственные устои. Мы одинаково понимаем семейную честь и гостеприимство, у нас одинаковые свадьбы, задушевные беседы, смех и веселье, да почти всё, такое родное и близкое. И всё это игнорируется, потому что не выгодно Кремлю и нашей верхушке. Англичане за три дня достигли Фолклендских островов, а те находятся за много тысяч миль от них. И столько же времени понадобилось нашим армейским подразделениям, чтобы добраться с военной базы Насосная под Сумгаитом до самого города. Они опоздали не на три часа, Горбачёв по обыкновению лжёт, а на три дня. Ну а на сколько дней армия опоздает сюда, в Баку, не известно. Многие из тех, кто совершает постыдные дела, мастера произносить красивые речи. Горбачёв из них. Сегодня на дворе январь 1990-го, я бы сказал, чёрный январь. Попомните моё слово, эта резня устроена специально для того, чтобы ввести войска в Баку. И не для защиты армян, а чтобы провести предстоящие парламентские выборы в условиях чрезвычайного положения и сохранить коммунистический режим. Очень скоро вы станете тому свидетелями.
– Мирали-муаллим, – сидя на койке, вкрадчиво и хрипло сказал Аллаверди. – Я вижу, у вас феноменальная память и вы знаток истории. Я тоже неплохо её знаю, но я специалист по литературе и, между прочим, издал две книжки стихов. Наверное, вы слышали моё имя – Аллахверди Мамедлы. Словом, я не историк. Я редактировал шеститомное собрание сочинений Расула Рзы, много раз встречался с ним на втором этаже Пассажа, в его шикарном доме. Так вот, он говорил, что карабахские армяне – пришлые, это Грибоедов переселил их из Ирана к нам в Азербайджан. И ещё он сказал одну вещь, которая не выходит у меня из головы. Нельзя, говорит, отдавать другим землю, коня и свою жену, их, говорит, завоёвывают кровью.
– А не говорил ли тебе Расул Рза, что в роскошном доме Балабека Лалаева, где он с шиком обитает, его собратья девятого февраля пятого года зарезали всё семейство и домочадцев, включая малых детей, общим счётом двадцать четыре человека, самого же Лалаева с женой расстреляли прямо на лестнице? Ну а великолепный дом и всё имущество присвоили.
Стало тихо.
– Я не знаю, что тебе говорил Расул Рза, он ведь говорил это не мне, а тебе, – наконец произнёс Мирали-муаллим. – Что же до Грибоедова, это верно. При его содействии и непосредственной помощи 700 семьей армян в соответствии с Туркманчайским договором перебрались в Армению, в Араратскую долину, из этих, 300 семей вернулось обратно, а значительная часть оставшихся погибла в результате эпидемии чумы. Но этих армян не выселили из родных мест, а наоборот, вернули туда, откуда их предков угнал шах Аббас. По приказу шаха в 1604—1605 годах были разрушены многие армянские сёла и города, а их жители — триста пятьдесят тысяч армян, насильно переселены во внутренние районы Персии. Примерно столько же угнал и Надир-шах в 1734-м. Их потомками заселены в Карабахе всего несколько сёл. Ещё одно село из тех мест – Мадраса в Шемахинском районе, близ старинного селения Сагиян. В этом Сагияне тоже, как в Амарасе, Месроп Маштоц основал некогда армянскую школу. Говорю, то, что я здесь излагаю, я нигде, конечно же, не стану рассказывать. Есть у армян пословица: кто говорит правду, тому нужен конь у ворот. Однако мы обязаны знать истинное положение дел. На территории Карабаха, или, как говорили в старину, Арцаха от восточного берега озера Севан и до Куры с Араксом, а оттуда до южной границы Грузии армяне жили с древнейших времён, отнюдь не после Грибоедова. Иначе византийский император Константин не адресовал бы в первой половине десятого века своё послание «в Армению, владетелям Хачена». В романе нашего классика Юсифа Везир Чеменземенли ,,Али и Нино,, есть один отрывок, где описывается, что приехавшему в Шуши на отдых Али, хозяин дома-азербайджанец рассазывает ему о том, как их предки появились там, а так же объясняет, что в старину Карабах назывался Агванк, а еще ранее до этого — Арцах. Почитайте труды Ксенофона, Страбона, других античных историков, а также Марко Поло, Алишана, Орбели, арабских авторов, и вы поймёте, что культурная среда на правобережье Куры была армянской, именно армяне создали эту среду. Наш великий историк Бакиханов, ссылаясь на труды античных авторов, отмечает, что сообразив разные обстоятельства и показания историков, можно полагать, что правый берег Куры до впадения Аракса составлял границу Армении. Плиний и Птоломей пишут, говорит он,что северная граница Арении доходит до Куры… В подтверждение этому, приведу слова Страбона о том, что границы области Ширван состовляют: с востока-Каспийское море, с юга-запада река Кура, отделяющая её от Армении и Мугана. Характерно, что в своем труде он пишет о том, что провинцией Армении являются Фавена и Орхистана, то есть весь равнинный и нагорный Карабах. Поймите, все монастыри, церкви, крепости, хачкары на этой земле поставлены армянами, на самолётах это всё не перебросишь, как и другие историко-археологические памятники. Армянскими буквами и на армянском языке высечены десятки тысяч лапидарных надписей. И упоминаемые в них события, лица, факты, многократно засвидетельствованные Хамдаллахом Газвини, Шараф-ханом Битлиси, Джакомо Кантелли, Шарлем Дилом, Тревер, ибн Хаукали, а ещё назову имена Вольтемара, Жана Шардена, Аль-Истаками, Линча, Аль-Мугадасина, Абу-ль-Фараджа, средневековых армянских историков и иностранных авторов, в их числе и всех наших дореволюционных историографов. И наконец, названия у всех этих памятников тоже армянские.
– Выходит, их привёл к нам не Грибоедов? – спросил Хафиз.
– Если после стольких объяснений ты задаёшь такой вопрос, то стоит ли мне продолжать? – устало и с некоторой обидой в голосе сказал Мирали-муаллим и всё-таки продолжил: – Начиная с конца шестнадцатого века армянские мелики Карабаха установили дипломатические связи с рядом европейских государств и Россией. Документы, относящиеся к их взаимоотношениям, опубликованы. Они свидетельствуют, что европейские страны признавали меликов Арцаха-Карабаха самостоятельными, независимыми правителями. Сохранились послания католикоса Есаи и армянских меликов как римскому папе, так и Петру Великому, написанные в Гандзасаре в 1701 году. В них они просят помощи у папы и русского царя. Сохранились также два письма, написанных в 1726 и 1729 году в крепости Шуши, о том, что в Карабах вторглось сорокатысячное турецкое войско. Имеются и грамота Петра Великого, и письмо императора Павла, адресованные меликам. В последнем конкретно указано количество армянского населения Карабаха – одиннадцать тысяч семейств. А Екатерина Вторая даже пообещала восстановить в Арцахе армянское государство. Наконец, доныне стоит построенный в четвёртом веке монастырь Амарас, где в начале пятого столетия, как я сказал, Месроп Маштоц открыл школу, где обучали армянской грамоте. Надо упомянуть и монастырь Гтич, построенный в девятом веке, и Гандзасар и Дадиванк, построенные в двенадцатом веке, которые Якобсон считал энциклопедией армянского зодчества. А в то время, на которое ты сослался, в Шуши уже печатались армянские книги и периодические издания.
– А наши Панах-хан, Ибрагим-хан, Мехти-Гули-хан? – попытался сделать ответный выпад Аллаверди.
– А вот они – пришлецы, – незамедлительно дал ответ Мирали-муаллим. – В книге Пахомова об этом очень обстоятельно сказано. Внутренние усобицы армянских меликов использовал предводитель среднеазиатского кочевого племени сараджаллу Панах-Али. Он бежал из Персии, где Надир-шах приговорил его к смертной казни, и нашёл прибежище у джрабердского армянского мелика Аллахули-султана. Кончилось это тем, что он потом повелел отсечь голову своему спасителю, который многажды лгал в ответ на запросы Надир-шаха, мол, «в моём краю такого человека нет».. У Панаха,- продолжал Мирали муаллим.- в этих землях даже не было родового кладбища. Хаченские князья Гасан-Джалаляны выделили ему земельный участок близ нынешнего Агдама, что в старину назывался Акна… В рапорте Суворова, направленном из Астрахани князю Потемкину, сообщалось, что варандинский мелик Шахназар предатель своего отечества, призвал Панах-хана, бывшего прежде начальником мелику незнатной части кочующих магометан близ границ карабагских, уступил ему свой крепкий замок. То же самое говорит и Чичерин, комиссар по иностранным делам советской России. В письме Ленину он отмечал, что Карабах – исконно армянская земля, однако в низинной его части после истребления армян поселились татары. И это, между прочем, правда, наши не строили городов, в отличии от оседлых армян. Мы, как говорят, вели свои стада за солнцем, в то время как армяне занимались земледелием, осваивали ремесла и строили города.И не случайно, что у нас на всей этой территории нет ни одного историко-архитектурного памятника, потому что мы действительно городов не строили и крепостей не ставили – кочевали от пастбища к пастбищу…
– Академик Зия Буниятов, Фарида Мамедова, Ахундов, Гёюшев и кое-кто ещё придерживаются другого мнения. В частности, Фарида-ханум настаивает, что армяне чужеродный, пришлый народ. Однако речь у нас не об этом, – примирительно сказал Аллаверди, переложив подушку под спину, к стене. – Почему армяне в Османской империи всякий раз изменяли туркам и переходили на сторону русских?
– Что говорит Уинстон Черчилль: «Нет вечных друзей и вечных врагов, есть вечные интересы». Так оно и есть. В политике нет народов-изменников и народов-друзей, – с тем же миролюбивым неспешным спокойствием пояснил Мирали-муаллим. – Существуют лишь политические и национальные интересы. Во имя своих национальных интересов всякое государство либо народ выстраивает и проводит ту или иную политику. Да, во время всех без исключения русско-турецких конфликтов армяне неизменно становились на сторону русских, против турок. С помощью различных посулов и прямых обманов русские использовали армян, а потом бросали один на один с противником.
– Большая резня пятнадцатого года для того и произошла – чтоб армяне опять не перебежали на сторону русских, – воодушевлённо подхватил Аллаверди. – Николай Второй встретился в Тифлисе с армянским католикосом и посулил ему золотые горы. Армяне обрадовались.А на самом деле Николай хотел туда заселять казаками… Прав был Тацит, когда называл армян ненадёжным народом, – добавил он, ёрзая на месте.
– По словам египетского историка Мухаммада Рефата аль-Имама, армянский народ в Османской империи называли «миллат садыки», что значит «благородная нация» – именно за благородство и верность по отношению к стране и султану. Но это между прочим…Только что ты ссылался на Мамедову – мол, армяне чужеродный, пришлый народ, – с искренней горечью сказал Мирали-муаллим. – А вот сорок первый царь Армении Зармайр, из поколения патриарха Айка, возглавлял армяно-эфиопские войска на Троянской войне против эллинов. Зармайр был смертельно ранен стрелой, выпущенной из лука Ахиллеса. Другой пример..немецкий исследователь Карстен Нибурн переписал расположенную на скалах Бихистуни в Персии клеопись и отвез в Германию, после расшифровки в параграфе 26 прочитали: » Я направил своего слугу — армянина Дадарси в Армению». Надпись на скале Бихистуни была сделана более 2500 лет назад. Это одна из древнейших надписей об армянах И Тиглатпаласар в двенадцатом веке до нашей эры, и Геродот в пятом веке, тоже до нашей эры, и твой Тацит – он-то жил уже в новой эре, в первом веке, – так вот, все они свидетельствуют: армяне обитали здесь задолго до новой эры. Тацит писал о племяннике императора Тиберия полководце Германике, что тот счёл первой своей заботой побыстрее достичь армян, чья страна испокон века, слушай внимательно, это его слова, сопредельная с римскими провинциями, глубоким клином загнана во владения мидян. За семьдесят лет до новой эры Армения стала одним из крупнейшим государств Ближнего Востока. Простиралась она в то время от Каспийского до Средиземного моря, от Кавказа до Палестины и Киликии. Дошедшая до наших дней вавилонская глиняная табличка упоминает всего шесть стран, и одна из них – Армения… Многие наши историки, в их числе и ученица Буниятова Мамедова, видимо, не испытывают необходимости читать иноязычных авторов и своими ничем не обоснованными, так сказать, измышлениями ставят в неловкое положение себя и нас.
Снова послышалось бульканье воды. Должно быть, Мирали-муаллим опять выпил лекарство.
– Мировую цивилизацию невозможно представить без армян, – продолжил он немного погодя. – Так утверждаю не только я, но многие известные люди, начиная с Байрона и Магды Нейман до Мари-Фелисте Броссе, Андрея Сахарова, Дмитрия Лихачёва, Дэвида Лонга. Армянскому театру две тысячи лет, а в наших театрах мужчины ещё недавно играли женские роли, у них есть Матенадаран, изумительная миниатюра, зодчество и превосходная средневековая лирика, которую Валерий Брюсов считал одним из крупнейших достижений мировой литературы. Они дали миру Тороса Рослина, Саят-Нову и Параджанова, дали миру Звартноц и Гехард, дали Нарекаци и Айвазовского, написавшего шесть тысяч замечательных картин, они первыми в мире провозгласили христианство своей государственной религией. А через восемьдесят шесть лет после этого события Персия и Византия поделили Армению между собой. Так Армяне потеряли свою государственность, была уничтожена их письменность и литература, но через сто лет они создали новый алфавит; это было шестнадцать столетий назад. А у нас, к сожалению, по сей день, нет даже своего алфавита. За короткий срок мы восемь раз меняли свой алфавит. Скажу больше, хотя вы сами всё это хорошо знаете. Сколько насчитывалось армян к началу Великой Отечественной войны? Полтора миллиона. Из полутора миллиона армян шестьсот тысяч ушли на войну, триста тысяч солдат и офицеров погибли на фронтах. Имея в три раза меньше населения, чем Азербайджан, армяне дали Советскому Союзу на войне более ста Героев Советского Союза и столько же генералов. Кстати, многомиллионная Средняя Азия, Северный Кавказ и Закавказье не дали вместе ни одного боевого маршала, зато смотри скольки их у армян- Баграмян, Бабаджанян, Худяков-Ханперянц, адмирал Исаков…И все, кстати, карабахцы. Между тем героев-азербайджанцев не больше четырёх десятков, куда, между прочем, входят и талыши, и лезгины, и таты, и аварцы, и другие. А боевых генералов у нас всего два – Ази Асланов, да и тот, как известно, талыш, и Махмуд Абилов, по национальности лезгин.. . Скажите на милость, кого мы дали миру, кроме кровожадных варваров Сумгаита и директора школы Аршада Даштамир-оглы Мамедова, который в 1966 году в карабахском селе Куропкаткино зверски изнасиловал, а затем зарезал своего ученика, восьмилетнего мальчика-армянина?
– Низами дали, – не сразу ответил Аллахверди.
–Низами персидский поэт, писал на языке фарси, родился в персидском городе Гуме, в двух стах километрах от Тегерана, и в Персии же похоронен. Он классик персидской поэзии, один из великих поэтов средневекового Востока, крупнейший поэт-романтик в персидской эпической литературе, привнесший в эту, персидскую эпическую поэзию разговорную речь и реалистический стиль. Был бы наш, не писал бы о нас, что ,,Благородным кровям мы принадлежим, Не подобает нам на языке дикарей-кочевников-турков писать, На языке благородных подобает нам читать,,. Или этот: ,,Мы во дворце не терпим тюркский дух, И тюркские слова нам режут слух…». Так что, к нашему народу он не имеет никакого отношения, как и Бабек, Насир ад-Дин Туси, Хагани, Физули, Саади, Катран Тавризи, Насими, Шейх Мохаммад Хиабани, Ризае Аббаси, Бабрак Хурамаддин, Рашид-эд-Дин, Шахрияр, словом, от арабского путешественника, ныне ставшим нашим, Абд ар-Рашид Бакуви до лезгина по национальности Узеира Гаджибекова и чеченцев Муслима Магомаева — деда и внука, и многих других. На армянском языке и о своём народе, об армянах, писали Мовсес Каланкатуаци и Киракос Гандзакеци, Давтак Кертох и Мхитар Гош… Я скажу, что приписывать себе культурные ценности другой страны не считаю достойным поступком, потому что не имея этих самих культурных ценностей, кое кто из наших думает, что можно присваивает ценности других стран. Такой шаг с нашей стороны не чем иным, как культурной кражей, нельзя назвать. Присваивать чужую историю, её памятники и знаменитых деятелей, да ещё и кичиться этим как собственным достоянием – позорнее этого я ничего себе не представляю. Поймите же, нелепо создавать историю и культуру за чужой счёт. Нам не нужна ни выдуманная, отсюда-оттуда переписанная фальшивая история, ни фальшивые историки вроде того же Буниятова. Между прочим, он совсем недавно перевёл на русский язык статьи двух известных кавказоведов Доусти и Роберта Хьюсена и, нимало не стесняясь, опубликовал их под своим именем. И, как обычно, в кардинально искажённом виде: там, где в оригинале значилось «Армения», он писал «Азербайджан». Прочитав оригиналы этих статей, я был ошарашен. Авторы научно обосновывают: и князь Гасан-Джалал, и его предки считали себя чистокровными армянами. Далее там сказано, что все надписи Гасан-Джалала на построенном в 1238 году монастыре Гандзасар и на других историко-архитектурных памятниках, находящихся в Карабахе, а также на его мече – он, к слову сказать, хранится в Эрмитаже, – так вот, все они сделаны на армянском языке, и ничего албанского там нет и быть не может. В переводе же всё наоборот. Точно так же Буниятов повёл себя с книгой немецкого путешественника Шилдербергера, подменив армянские топонимы тюркскими,Армению – Азербайджаном, и нашим великим историком и просветителем Аббас Кули-ага Бакихановым, при переводе на русский язык, преднамеренно искажая его сочинения «Гюлистан-и Ирем,,. Это особенно возмутительно, поскольку Буниятов вычеркнул из текста оригинала не только то, что потомок Аргун хана эмир Теймур., затем и Шах Исмаил из Сирии, Ирака и Турции перевезли на Кавказ двести тысяч семьей турок и поселили их в Эриване, Гандже и Карабахе, где они со временем разумножились, но из книги им также было вычеркнуто и упоминание о территориях, населенных армянами. Тем самым, не только фальсифицируя историю, но и не уважая мнение самого Бакиханова, чьё имя носит азербайджанская академия наук, где он работает директором института истории. Был такой профессор Микаил Рафили, он ещё в 1947 году в статье «Культура азербайджанского народа до Низами» утверждал, будто, описывая в «Одиссее» циклопов, Гомер подразумевал азербайджанцев. Получается, что наши предки – пещерные людоеды. Зачем далеко ходить? Ректор Нахичеванского университета Абибейли недавно написал, что пророк Ной после всемирного потопа долгое время жил в Нахиджеване и был обычным рабочим, который добывал соль в пещерах Дуздага. Он предлагает в его честь посторить музей. Тот же Абибейли пишет, что Гомер сочинил свою «Одиссею» под влиянием азербайджанского эпоса «Китаби деде Коркут»* , а шумеро-вавилонский эпос «Гильгамеш», где трагическая неизбежность смерти впервые в мировой литературе преодолевается бессмертием человеческого героизма, вавилонцы украли у азербайджанцев, ибо имя «гильгамеш» имеет азербайджанское происхождение и образовано от ибо имя «гильгамеш» имеет азербайджанское происхождение и образовано от слова «гьямыш»** . Кстати, глупые мысли приходят в голову каждому, только вот умные не предают их огласке. К тому же, понося чужого бога, не сделаешь своего сильнее. Точно так же, браня соседского отца, не докажешь любви к своему. Это так, между прочим.
Вновь повисла долгая пауза.
– А возвращаясь к твоему вопросу…Да, со времён царя Алексея Михайловича армяне устремляли свои взгляды к России, ожидая от неё помощи, – наконец заговорил Мирали-муаллим. – Но этой вожделенной помощи они отродясь от России не видели. Напротив, Россия всегда вредила им. Чем, например, отплатила Россия за кровь, пролитую армянами в четырёх войнах первой половины девятнадцатого века? Согласно Гюлистанскому
договору, значительная часть Восточной Армении вышла из-под ига Персии. Хотела ли Россия создать какую-либо административную единицу, чтобы возродить армянскую государственность и частично решить армянский вопрос? Именно во имя этого армянские добровольческие дружины – почти триста тысяч самоотверженных воинов – сражались от Балкан до Кавказского фронта, демонстрируя личный героизм и беспримерную верность долгу. Нет, этого Россия как раз и не хотела. В угоду наших бекам и богатеям царизм включил армянские земли в различные губернии, разъединил их и фактически лишил армян права на родину. Вот откуда идут всегдашние распри и споры. И ещё один факт. С назначением в 1896 году Голыцина главноначальствующим Кавказа, были ограничены все, что касалось свобод и жизненных интересов армянского народа. По его инициативе в 1903 году был принят закон о запрете каультурно-просветительской деятельности армян и о конфискации имущества армянской церкви. Русское правительство экспроприировало земли Армянской церкви, закрыло церковные школы, библиотеки, благотворительные и культурные общества, в том числе издесь, в Баку, который фактически вылился в открытое противостояние армян против царской власти. Этого показалось мало. И в восьмом, девятом, десятом, двенадцатом годах, во времена Столыпина, тюрьмы заполнились армянской интеллигенцией. Сидели в тюрьмах Александр Ширванзаде, Аветик Исаакян, великий поэт и миротворец Ованес Туманян, которого в закрытом вагоне увезли в Петербург. Не хочу затягивать. Возьмём события двадцатых годов. Почему советская Россия уступила Турции армянские земли, оставив более трёхсот тысяч безоружных беженцев лицом к лицу с регулярной армией
————————————————————
*,,Китаби деде Горкут,, — ,,Книга моего деда Горкута,,.
**Гямыш (азерб.).- Буйвол.
Мустафы Кемаля? Кто вооружил турок и спровоцировал их против армян?
Россия. В 1920 году территория Армении достигала семидесяти двух тысяч
квадратных километров и включала Карабах, Борчалу вместе с Казахом,
Шулавером, Цалкой, Дманиси, Акстафой с Тоузом, а также Сурмалу, Шарур-Нахичеван, Карс, Ардаган. Ахалкалак и Ахалцих…По Севрскому договору к Армении должны были перейти ещё девяносто тысяч квадратных километров: часть Восточной Армении, Ванский вилайет, Эрзрум, Битллис, Багеш, Трабзон. Лев Давидович Бронштейн-Троцкий, конечно, не без ведома Ленина и по тайной договорённости с Талаатом издал приказ о выводе русских войск с Кавказского фронта, видимо, чтоб открыть туркам дорогу на Кавказ и взамен получить право основать еврейское государство в Палестине. Кроме того, с помощью Сталина и при его личной заинтересованности русско-турецкий договор от 16 марта 1921 года фактически аннулировал Севрский договор. Территория Армении была разделена между Турцией, Азербайджаном и частично Грузией. Турции досталось сто двенадцать тысяч квадратных километров, Азербайджану – шестнадцать тысяч и Грузии – четыре тысячи. Армении осталось менее тридцати тысяч квадратных километров, то есть одна десятая часть исторической территории. Вот вам и благодарность за вековую преданность армян России и приверженность ей.
Мирали-муаллим надолго замолчал, а потом добавил:
– Взамен территорий Турция послала в дар Армении три вагона соли, три вагона муки, восемьдесят овец и сорок коров.
У Аллаверди удивлённо поползли вверх мохнатые брови, ещё сильнее отвисла жирная мокрая губа, он грузно поднялся с места, ударил ладонью по колену и, схватившись за живот, от души захохотал. Смеялся долго и, не отсмеявшись до конца, спросил Хафиза:
– Гагаш* , курить не хочешь?
– Атаганын джаны, ещё как хочу, – отозвался Хафиз. – Как не хотеть? Пошли на второй этаж, поглядим, этих трусливых армяшек ещё не зарезали? Говорят, вывели из всех отделений больницы четыреста армян и увели в неизвестном направлении.
Смеясь, они покинули палату. Наступило молчание.
– Всё в руинах и трауре, здесь прошли наши, – в тишине вновь послышался голос Мирали Сеидова.
Невесть откуда взявшаяся муха, монотонно жужжа, носилась по палате; слышно было, как она то и дело билась о стекло. Потом жужжание прекратилось, мухе, должно быть, удалось улететь. Опять стало тихо, покойно. Вероятно, Мирали-муаллим погрузился в чтение, потому что время от времени слышалось шуршание страниц.
Я попытался сдвинуться с места. Сделать это было трудно, боль перехватывала дух. Матрац намок от крови, я чувствовал это спиной. Никто
———————————————————
*Гагаш( азерб).- Братец (бакинский городской жаргон).
из врачей ко мне так и не подошёл. Я коснулся рукой бока, пальцы тут же повлажнели, бок ещё кровоточил. Я не знал, что меня ждёт. Догадается ли Зармик, где я? Знает ли он мою фамилию? Когда мы брали билеты на самолёт, он заглянул в мой билет, но прочёл ли при этом фамилию? Впрочем, если он встретится с Реной, она ему скажет. Мне бы не хотелось, чтобы Рена пришла сюда и увидела меня в таком состоянии. Не дай Бог. С другой стороны, если даже Зармик знает мою фамилию, поймёт ли он, что Адунцман – это я. Сиявуш бы понял, а он – едва ли. Да и потом, Зармик, может, и сам угодил в лапы погромщиков, и поди знай, жив ли он. Удалось же той дряни,
медсестре, заронить подозрения у персонала, в противном случае кто-нибудь да подошёл бы ко мне. Мне показалось, если до утра никто из врачей не подойдёт, я попросту истеку кровью. Снова попытался повернуться, и снова неудача, сильная боль скрутила меня.
– Вам плохо? – донёсся до меня голос Мирали-муаллима.
Я попытался разлепить губы, не получилось. Его шаги медленно приближались.
Передо мной стоял густоусый толстогубый полноватый пожилой чело
Передо мной стоял густоусый толстогубый полноватый пожилой человек с седыми волосами. Он смотрел на меня, прищурив глаза.
– Вам плохо? – повторил он. – Вы меня видите?
Я кивнул.
– Ваши знают, что вы здесь?
– У вас есть телефон? Дайте мне номер, и я им позвоню.
Я молча взглянул на него, и он, вероятно, всё понял.
– Жизнь похожа на театр, где лучшие места занимают мерзкие люди, – сказал он, сочувственно глядя на меня. – Нет ли у вас близкого друга азербайджанца? Я могу позвонить ему.
У меня в душе забрезжил слабый лучик света. Я с признательностью поднял на него глаза и, с усилием шевеля губами, произнёс имя Сиявуша.
– Артист Сиявуш?
Я отрицательно качнул головой.
– Сиявуш Сарханлы?
Я снова покачал головой: нет. И, приложив невероятные усилия, с чудовищной болью в уголках рта чуть слышно выговорил фамилию Сиявуша.
– А-а!.. – обрадовался Мирали-муаллим. – Сиявуш Мамедзаде. Как же, как же, очень хороший парень, я его знаю. Не беспокойся, – тихонько сказал он по-армянски, и в голосе его прозвучала интонация родного человека, – я позвоню ему. Номер помнишь? Если даже не вспомнишь, не беда, сам отыщу. Не тревожься, всё будет хорошо.
Я кое-как дал ему понять, что помню номер телефона, и пальцем изобразил в воздухе цифры. Внимательно следя за движением моего пальца, Мирали-муаллим записал на бумаге и показал мне – 964658.
– Правильно?
«Да», – кивком подтвердил я и глазами поблагодарил его.
– Я написал большую книгу о Саят-Нове, – тем же дружеским тоном, но уже по-азербайджански сказал он и, накинув пиджак на плечи, вышел из палаты.
… Я потерял чувство времени и пространства, не знал, где и давно ли нахожусь. В палате жизнь тоже словно бы замерла. А где соседи, почему никого нет? Или уже ночь, и все давно спят?
Кто-то вошёл – молодой, в белом халате, на голове белый колпак из той же ткани. Я смотрел на парня в белом халате и поначалу не заметил Сиявуша, вошедшего следом и внимательно смотревшего на меня. Они уже поворачивались вспять, собираясь уйти.
– Это я, Сиявуш, это я, – кое-как объяснил я. – Помогите.
– Для того мы и пришли, – повернувшись обратно, улыбнулся парень в белом халате.
Сиявуш поспешно подошёл ко мне и чуть ли не опустился на колени.
– Что они с тобой сделали, Лео, – сказал он, не в силах сдержать слёзы и возмущение. – Я тебя не узнал. Почему ты не позвонил. Неужели ты был здесь, в городе?
Я не смог ему ответить, но дал понять, что позже всё объясню.
– Я вчера поздно добрался до дому, в полночь. Пешком шёл от сестры, представляешь? Ни трамвая, ни автобуса, ничего не работает, – объяснил Сиявуш. – Ужасные, жуткие вещи творятся, Лео, ты просто не представляешь. Едва переступил порог, Валя говорит, что звонили из Семашко, надо срочно идти туда. При этом ни имени, ни фамилии, ни отделения, ни номера палаты. Я отыскал Натига, он врач в детском отделении, мы вместе пришли, просмотрели журнал приёма больных, наконец нашли фамилию Адунцман. Я сообразил, что это ты, – улыбнулся он. – Хорошо придумал, иначе искали бы мы тебя два дня по всем отделениям.
Я вспомнил, что Мирали-муаллим не спросил у меня ни имени, ни фамилии, а сам не догадался назваться. Всё равно, я был ему безмерно благодарен.
– Раны на голове я вижу, – сказал Натиг, пододвигая табурет. – Есть ещё раны?
Я откинул ворсистое покрывало. Увидев мой бок, он сжал губы и покачал головой.
– Я… мать их так, кто провозглашает этих сапожников врачами, – гневно процедил он. – Я… так и разэтак их клятву Гиппократа и купленный за взятки диплом, – не успокаивался он. – Так и разэтак тех, кто считает их людьми.
– Всю ночь кровоточило, – сказал я.
Натиг вышел, вернулся с ватой и лекарствами, принялся обрабатывать рану.
Сиявуш смотрел на меня из-под очков, участливо улыбаясь.
– Повезло тебе, – после довольно продолжительной возни, сказал Натиг, – попади удар на несколько миллиметров правей – проткнул бы почку. Тогда выкрутиться было бы сложновато.
– Не пойти ли поблагодарить их? – пошутил Сиявуш.
Перевязав рану, Натиг пошёл выяснить обстановку.
– Знаешь, кто лежит здесь, в отделении реабилитации? – вдруг вспомнил Сиявуш. – Скажу – не поверишь. Завсектором ЦК Хейрулла Алиев. Помнишь, он звонил тебе насчёт поездки в Карабах? По предложению Везирова его назначили первым секретарём райкома в Джалилабад. Он известный литературовед, уважаемый человек, долгие годы работал в ЦК и, главное, коренной джалилабадец. Прежде тамошнее руководство народного фронта выгнало взашей трёх секретарей – Гурбанова, Агаева, Годжаманова – за то, что не местные, чужаки. Не успел доехать Хейрулла до пункта назначения, верховод районного народного фронда Миралим Байрамов, который в былые времена славился грабежом идущих в Армению вагонов и продажей награбленного, распорядился выгнать его из района. Сказано – сделано. Хейрулле перебили ломом рёбра, проломили голову. Несколько учителей с помощью тамошнего сеида кое-как вырвали, спасли его и, залитого кровью, переправили в Баку. Замешкайся они чуть-чуть, его бросили бы в горящую машину. Две недели лежит без сознания, в себя не приходит. Какой ЦК, какие власти, главари народного фронта чувствуют себя в республике хозяевами… За ними, невидимые, стеной стоят Гейдар Алиев, Сулейман Демирель и Тургут Озал, Аллахшукюр Пашазаде, а ещё Руслан Хасбулатов, Виктор Поляничко, Гасан Гасанов, шеф КГБ Крючков…
Не успел он договорить, как в палату в наброшенном на плечи пиджаке вошёл Мирали-муаллим и, увидев Сиявуша, радостно поприветствовал его:
– Ты пришёл? Очень хорошо, очень хорошо, – сказал он. – Значит, всё-таки передали. Я собрался было перезвонить.
– Так это вы звонили, Мирали-муаллим? – удивился, вскочив с места, Сиявуш и уважительно пожал ему руку. – Спасибо. Вы не назвали ни имени, ни фамилии, ни палаты. Или жена моя что-то напутала?
– Верно, забыл спросить имя товарища, но в какой он палате, кажется, сказал. Наверное, твоя жена недопоняла. Ничего страшного, главное, что ты здесь.
В свой черёд и я кивком головы поблагодарил Мирали-муаллима. Того, что он для меня сделал, и его доброе лицо мне никогда уже не забыть.
– А с вами что случилось? – поинтересовался Сиявуш.
– Высокое кровяное давление, Сиявуш, я гипертоник, – объяснил Мирали-муаллим, нахмурившись. – Иншаллах* , меня лечат, посмотрим. Требуется покой, спокойная жизнь, однако… Можно ли помышлять о покое, когда вокруг анархия… – Он помолчал. – Нещадно проливая кровь тысяч неповинных и
*Иншаллах (араб.).-Слава Богу
беззащитных людей, зверски убивая, насилуя пожилых женщин и грабя всё кряду, шовинисты из народного фронта хотят добиться независимости. Такие же
зверства и насилия принесли и первую нашу республику. Неужели, Сиявуш, это и есть национальное самосознание и демократия? Если да, то, прости покорно,
плевал я и на то, и на другое. У всякой тайны имеются ноги и крылья, и, по
правде говоря, меня всерьёз удивляет большинство наших шовинистов – Зия Буниятов, Бахтияр Вагабзаде, Искандар Гамидов, Иса Гумбатов и прочие. Они из кожи вон лезут, требуя прогнать с работы всех, у кого матери либо жёны армянки. Между тем они сами вовсе не азербайджанцы, во всяком случае, не чистокровные азербайджанцы. То же надо сказать о Гейдаре Алиеве, у которого мать армянка, по национальности он курд, родился в селе Джомардлы Сисианского района Армении. Семья в самом конце двадцатых годах, точнее в двадцать девятом году, переехала в Нахиджеван. Кстати, говороят, что бабка его по отцу была из окурдизированных армян села Уруд того же Сисианского района. Брата Гейдара – Гасана Алиева, ныне академика, ещё в 1938 году газета «Бакинский рабочий», а вслед за ней и газеты Нахичевани, называли первым курдом в республике, кто защитил диссертацию и стал кандидатом наук. Не помню, кто высказал истину – Божьи создания порой прикрывают наготу мундирами жандармских генералов и шёлковыми рубахами палачей. Всё это гнусно и бесчеловечно, – возбуждаясь, повысил голос Мирали-муаллим, – я затрудняюсь даже дать имя этой мерзости. Первую нефтяную скважину здесь,
в Биби-Хейбате, в 1847 году пробурили армяне, – продолжал Мирали-муаллим. – В 1897 году, согласно переписи населения, в Баку проживало семьдесят девять тысяч армян, нас тогда было в несколько раз меньше, они построили первые школы и больницы, открыли первые библиотеки и другие очаги культуры, потому что наших-то грамотеев можно пыло пересчитать по пальцам. Наш председатель Верховного Совета Мир-Башир Касумов не мог даже свою фамилию написать. В начале века и ещё долгое время большинство в Баку составляли армяне и русские, мусульман здесь было не более трети населения. В годы войны десятки и десятки тысяч азербайджанцев приехали в Баку из районов и пошли работать на заводы и нефтепромыслы, для получения брони, чтобы не забрали их на фронт. И даже после этого нас в городе было немного, городские новосёлы даже стеснялись говорить на родном языке. В Баку мы составили большинство только недавно. В начале семидесятых годов все предместья и близлежащие деревни, населённые в основном азербайджанцами, по распоряжению Гейдара Алиева, включили в состав столицы. Словом, если сегодня Баку стал процветающим городом, то во многом благодаря золотым рукам и большому таланту армян. А как забыть архитекторов Тер-Микелова, Баева, Саргисова, Тер-Ованнисяна, Каспарова? Построенные ими здания и сегодня радуют глаз красотой и удобствами. По проекту того же Тер-Микелова удалось отодвинуть море на пятьдесят метров, и возникло настоящее чудо – прибрежный бульвар, излюбленное место прогулок. Нещадно убивать людей по национальному признаку, изгонять их из отчих домов, где родились ещё их деды, – чудовищное преступление против справедливости и Бога. – Мирали-муаллим тяжело покачал головой. – Только что рассказывали, в кинотеатре «Шафаг», куда собрают из разных мест уцелевших армян, изувеченных и истерзанных, милиция нагло отнимает у них украшения и последние гроши, оскорбляет, рвёт их паспорта, документы. У людей отбирают всё, оставляя только право думать и страдать. Кто мы, Сиявуш, откуда пришли, куда идём? Ничего не понимаю. Простит ли за это Бог, простят ли другие люди?
– Не знаю, как другие, но сами мы не вправе себя простить…У меня, Мирали муаллим, есть знакомый карабахский армянин на Баилове, Сергей Петросов, работал на заводе кондиционеров инженером, известный рационализатор. В прошлом году я о нем готовил передачу на телевидении, пару раз был у него дома. Кароче, у этого моего знакомого была единственная дочь Лола,ей было 20 лет. Я видел её-писанная красавица. Мама у нее была латышка. Перед кинотеатром Низами в присутствии многочисленной публики её вгрупповую износиловали и повесили вниз головой на дереве. Причем, на глазах у двух двоюродных ее братьев, которых так же жестоко избивая, убили и повесили на дереве,растушем вдоль улицы… Вчера Анар рассказывал страшные вещи. Говорит, не далеко от армянской церкви, в саду Парапета, он своими глазами видел, как старика армянина живьем сжгали на костре. Он рассказывал, что…
Сиявуш прервал рассказ, чем-то возмущенный, неожиданно вернулся Натиг, но, должно быть, опасаясь Мирали муаллима, ничего не сказал.
– Что случилось? – поинтересовался Сиявуш и, поняв, чему он остерегается, представил Мирали-муаллима, пояснив, что это он позвонил ему домой.
– Есть здесь мерзкая медсестра, – уже напрямую сказал Натиг. – Ходит по коридорам и объясняет всем и каждому, что в отделении лежит раненый армянин. Представители народного фронта уже знают это. Кто-то из них даже заявил, что если сестра сказала правду, надо будет его прикончить.
– Я позвоню кому надо, – вмешался Сиявуш.
– Нет, – отрезал Натиг. – Я говорил с доктором Мамедьяровым, Юнус отличный парень, отвезём Лео к нему. Я бы, конечно, взял его к себе, но у меня и без того две семьи армян.
– А почему не ко мне? – похоже, Сиявуш обиделся. – В конце концов, это мой товарищ, я обязан…
– К тебе нельзя, – снова прервал его Натиг. – У тебя дома с утра до вечера тронутые поэты, возьмут и выдадут. У Юнуса удобно, знаю, что говорю.
– Но мне нечего надеть, – хоть и тихо, зато внятно сказал я. – Моя одежда у них.
Натиг отправился выручать моё рваньё, однако вернулся в подавленном настроении.
– У них приказ – измазанную кровью одежду не выдавать. – растолковал он. – Боятся, что ты повезёшь её в Москву и предъявишь в доказательство погромов. Чуть не силком урвал пару ботинок сорок четвертого размера.
– Не беда, наденет мой плащ, – сказал Сиявуш, снимая плащ. – Завтра я что-нибудь принесу.
– Выйдем с чёрного хода, – предупредил Натиг. – По коридору я пойду впереди, а вы держитесь от меня на расстоянии.
Напялив на голое тело плащ, а на босые ноги – холодные, на два размера больше ботинки, обессиленный болями и потерей крови, я вышел с Сиявушем из палаты. В последнюю минуту обернулся и кивком поблагодарил Мирали Сеидова, который с пергаментным нездоровым лицом, с чёрными от бессонницы кругами под глазами молча, грустно и одиноко стоял у кровати. Тех двоих не было. Сиявуша я взял под руку, почти повис на нём. Мы вышли в коридор и, сопровождаемые вздохами, болезненными стонами и плачем бессчётного множества людей, медленно двинулись вслед за доктором Натигом.
Он подогнал машину тютелька в тютельку к двери. На долю секунды мой взгляд упёрся в расположенный за мединститутом, дальше многоэтажек Хутор с его самостройными, населёнными почти сплошь армянами домами; над ним тут и там подымался дым, и густой этот дым застил солнце… Там в мае орава вооружённых железными прутьями азербайджанцев с дикой бранью – «Долой армян!», «Смерть армянам!» – вторглась в эту слободку. На второй улице Хутора они заполнили дворик Алёши Агабекяна, безжалостно избивая подростков сыновей и волоком таская по земле жену и малолетних дочек. И тут пулей из охотничьего ружья с кровли дома Алёша уложил наземь главаря ватаги – одетого в цивильное майора милиции Фазиля Исмаилова. Озверелая свора замерла, в ужасе попятилась и обратилась в бегство. Кинувшись врассыпную, погромщики вопили: «Армяне вооружены», «Они нас убивают». Так было пресечено кровопролитие, и впоследствии никто не рискнул сунуться в Хутор. Интересно, как сложилась Алёшина жизнь, удалось ли ему спастись…
– Садись, садись, времени нет, – поторопил Натиг.
Сиявуш помог мне устроиться на заднем сидении.
– Ляг, чтобы никто не увидел, – обернувшись, велел Натиг. – Сиявуш, садись вперёд, рядом со мной.
Больницу мы покинули удачно. На улицах, как и тогда в Сумгаите, ещё дымились выгоревшие машины. На трамвайных путях у рынка в Арменикенде горела машина скорой помощи, из открытой дверцы свисала безжизненная мужская рука. Там и тут горели костры, кое-где лежали на боку опрокинутые ларьки. Весь Арменикенд пропадал в дыму. За рынком, на улице Фабрициуса вооружённая железными прутьями ватага молодёжи гнала вниз, в сторону вокзала, двадцать, двадцать пять девушек в нижнем белье, а то и вовсе почти голых. Натиг на большой скорости повёл машину вверх, потом свернул вправо, на улицу Инглаб, и помчался в сторону стадиона. Возле трамвайного парка, широкую улицу быстро пересекали две девушки, одна совсем ещё девчушка, в колышущемся под ветром красном платье. Старшая споткнулась о трамвайный рельс и опустилась на колено, но стремительно поднялась и глянула назад; в чёрных её глазах мелькнул ужас. Вслед за ними с ором шла ватага парней. Шакалий их вой «а-а-а-а» пропадал где-то за домами.
– Натиг, – мрачно процедил сквозь зубы Сиявуш, – скажи-ка, имеем мы право жить на свете?
– Мы – да, – ответил Натиг. – А вон те – нет. Они и им подобные жить не вправе. И те, кто наплодил их, тоже.
По улицам и дворам, словно по кошмару, метались туда и сюда людские ватаги. Откуда-то донёсся истошный женский вопль.
Врач Юнус Мамедьяров уже был дома. Нас он встретил всерьёз обеспокоенным. По его словам, погромщики из народного фронта уже не раз приходили к нему, спрашивали, не прячет ли он армян.
– Мать их, – грубо выругался Юнус, провожая меня в одну из комнат.
– Я уже перевязал его, – деловито сообщил Натиг. – Утром приду сменить повязку. И посмотрю раны на голове.
– Да я сам поменяю, – предложил Юнус, – я что, не врач?
– Врач-то ты врач, но не надо, – добродушно засмеялся Натиг. – Неужто тебе с твоими-то железными пальцами можно что-то доверить? Я сам приду.
Натиг имел дело с малышами и повязку накладывал и вправду крайне обходительно, мягко. Разумеется, они перешучивались и, возможно, пытались шутками рассеять обуревавшую их тревогу.
Номер Карининого телефона так и остался в кармане куртки. Я попросил Сиявуша сходить в дом с аэрокассами, в квартиру сорок три – навести справки.
– Будет сделано, – пообещал он. – Всё разузнаю. Рано утром приду с Натигом.
Юнус принёс мне поесть, дверь чуть не во всю стену завесил ковром. Посторонний вряд ли бы догадался, что за этой стеной есть ещё комната.
Я оценил предусмотрительность Юнуса позже, когда спустя время к нему заявились несколько человек и начали выспрашивать, нет ли в доме армян.
– Нет, – спокойно сказал Юнус. – Можете проверить.
– А если проверим и найдём? – угрожающе процедил один.
– Где ж ты их найдёшь, если нету? – твёрдо и грубовато, как мне показалось, ответил Юнус.
Я сидел за стеной и с замиранием сердца ждал, чем это кончится.
Мало-помалу затихая, голоса смолкли. Слава Богу, подумал я, убрались.
Поутру, как и обещали, пришли Сиявуш и Натиг. Но, Боже мой, что за вид был у Натига! Его лицо, скорее всего, ничем не отличалось от моего. Оно вспухло, под глазом вздулся крупный чёрный синяк.
Я сразу сообразил – это дела медсестры. Так и оказалось. Ох уж эта свирепая, лютая, кровожадная медсестра… Она донесла народному фронту, что врач Натиг Расулзаде перевязал армянина и забрал собой из больницы. Несколько человек, ввалившись в отделение, разколотили ему о голову стул, избили ногами.
Я виновато посмотрел на него.
– Какие наши годы! – улыбнулся Натиг опухшими губами. – До свадьбы заживёт.
Сиявуш сказал, что пошёл к Карине, но сорок третья квартира была заперта, никто не отозвался. Мне почему-то показалось, что он чего-то не договаривает. Подумал было, может, он не ходил, времени не хватило, но Сиявуш развеял мои сомнения.
– А знаешь, – неожиданно сказал он, – Саида живёт в том же доме.
– Что за Саида? – удивлённо спросил я.
– Сеидрзаева. Случайно её увидел. Живёт на том же этаже, в сорок пятом квартире. Сказала, тебя ищет какой-то парень.
– Меня?
– Ну да. Азербайджанец по имени Закир. Говорит, вы вместе прилетели из Москвы.
– А, верно. Интересно, где он. – Я страшно обрадовался, что Зармик жив-здоров.
– Я оставил Саиде свой номер. Сказал, как появится, пусть позвонит. Между прочим, Саида очень беспокоилась о тебе. Но я ничего ей не сказал.
Натиг два дня приходил перебинтовывать меня. Я чувствовал себя уже сравнительно неплохо. Пора было уходить, потому что погромы и убийства армян в городе все ещё продолжались. Но как уйти, коль скоро документов у меня не было, паспорт и все бумаги остались в руках погромщиков.
– Держи хвост торчком, старик. Сиявуш обо всём подумал, – подбодрил меня Сиявуш. – Замначальника управления гражданской авиации близкий мой знакомый, я с ним поговорю.
Назавтра Сиявуш явился в отличном настроении, сказал, что уже договорился, завтра в шесть утра мы едем в аэропорт «Бина».
С утра Сиявуш преподнёс мне новый сюрприз – привёл с собой Зармика. Это крайне меня обрадовало. Я рассчитывал узнать что-нибудь о Рене и попросить у него денег.
– Был у Карины? – спросил я. – Не знаешь, она нашла Рену, или позвонить не удалось?
– Не удалось, – ответил Зармик. – Знаешь, сколько я тебя искал? – быстро добавил он. – Обошёл все больницы, морги, даже в Мардакянах был, а там убитые, сотни убитых – мужчины, женщины, дети, – навалены друг на друга, как на складах. Вчера проходил у дома правительства, митинг. Хотел послушать, что говорят. Здесь и там жгут огромные костры. Морозно, туман, с моря дует холодный ветер. Чтобы согреться, влез в толпу. Высокий парень рассказывает: «Остановили мы машину ноль один, вытащили оттуда армянина и давай дубасить. А как перестал сопротивляться, швырнули в костёр. Он попытался вылезти, тогда парень из наших воткнул ему в грудь заточенную арматуру. И так всё время. Хочет из огня выбраться – длинный прут ему в грудь втыкается. В конце концов сгорел». Народ сидит у костра и хохочет. Я плюнул, ушёл. На улице Хагани, у парка 26 комиссаров двух женщин, мать-старуху и дочку, сожгли. Жуткое зрелище, своими глазами видел. На перекрёстке улицы Басина и проспекта Ленина из углового дома, левее аптеки, где магазин «Динамо», женщину с ребёнком из окна выбросили. То же самое – в нескольких десятках шагов оттуда, в кооперативном доме напротив русской церкви. Совсем седую, полуголую женщину тащили с балкона в комнату, она кричала, бедная, звала на помощь. Потом её и старика швырнули вниз. Одно и то же по всему городу, от центра до предместий. Что творится! То ли это советская страна, то ли Освенцим или Бухенвальд. Сколько уже дней армян режут без всякой жалости, грабят, насилуют, голыми гонят по улицам, разводят костры и сжигают. А где государство, Горбачёв, неужто Москва не видит этого?
– Почему не видит? Она же сама это и организовала, – возмутился Сиявуш. – Примаков, Язов, Бакатин, Гиренко здесь, сидят себе в ЦК, планы строят – как бы спасти режим. Человек абсолютно беззащитен перед государством. Государство может в любой момент устроить погром и резню, стереть в пыль не только отдельно взятого человека или группу людей, но и целый народ по национальному, религиозному, партийному либо какому-нибудь ещё признаку и позже квалифицировать это как организованные кем-то хулиганские выходки. Судить о законности в государстве нужно в первую очередь по тому, как защищена здесь личность и национальные меньшинства, – продолжал Сиявуш. – Если они не защищены, значит, это государство и его существование аморальны. Боевики народного фронта ворвались в Салянские казармы, захватили оружие. Наверху ждут, пока они силой возьмут одно-два отделения милиции и райкома, и тогда уже пустят в ход армию. И объяснят: войска, мол, введены для защиты армян и тем самым дополнительно посеют в народе ненависть и вражду к армянам. – Сиявуш глубоко вздохнул. – Воистину, прав был Илья Эренбург, когда говорил, что чудовищна страна, где Каин и законодатель, и жандарм, и судья.
*******
По дороге народнофронтовцы вместе с милиционерами проверяли машины. Пока доехали до аэропорта, нас остановили раз пять, но, всякий раз, увидев за рулём высокого ранга офицера в авиационном мундире, пропускали без проверки. В аэропорту машина замначальника управления беспрепятственно проехала прямо на лётное поле, в глубине которого стоял на взлётной полосе самолёт, а возле трапа теснился экипаж.
Здесь меня поджидала другая, не меньшая неожиданность. Оказалось, в Баку самолёт приземлился случайно, летел он из Ленинабада в Москву, но в силу какой-то технической неполадки совершил вынужденную посадку. А самое главное – командир воздушного судна и замначальника управления – старинные друзья, вместе учились в Воронежском лётном училище.
Я от души поблагодарил замначальника, обнял Сиявуша. «Старик, всё будет хорошо», – со слезами на глазах сказал он. Я тоже не смог сдержать слёзы. В последний миг Сиявуш сунул мне в карман деньги: «Прости, взял из дому пятьдесят рублей, больше не было». Мы снова обнялись. Зармик помог мне подняться в самолёт. «Я тебе должен ещё кое-что сказать». – произнёс он, отчего-то пряча глаза.
– Что? – со странным беспокойством и внутренним страхом спросил я.
– Карину убили азербайджанцы, – глухо выговорил он.
– Да что ты!
– Да. Её за ноги стащили по лестнице с шестого этажа вниз, при этом голова билась о перила и ступени, и бросили в огонь. Саида, ваш бухгалтер, видела всё, ведь это происходило у неё на глазах. Она пыталась вмешаться, но её никто не слушал, наоборот, ударили два раза. Я сам видел, у неё почти не открывался глаз. Я отправился тебя разыскивать, меня попросила Рена. Она всё время плакала, была уверена, что с тобой что-то стряслось, потому что шёл уже шестой час. Она послала меня к тебе на квартиру, но туда уже вломились погромщики.
– Рена была там? – осипшим от волнения голосом спросил я.
– Да, – подтвердил Зармик. И, подняв на меня глаза и не отводя их, добавил: – Её тоже убили.
В первое мгновенье до меня не дошло, что сказал Зармик. А потом… известие меня потрясло. Жизнь остановилась, замерла, дыхание перехватило, на лбу выступил холодный пот. Эти несколько секунд я стоял на краю пропасти, между минувшим и будущим. Я потерял себя.
– Что ты такое говоришь, Зармик?.. – Потрясённый, я не соображал, что делаю, и кулаком ударил его в грудь. – Что ты несёшь…
– Я не хотел тебе говорить это там… Саида рассказала мне всё. Случилось это у них на лестничной площадке. Один из бандитов, должно быть, их заводила, внезапно протянул руку и сорвал у Рены с шеи цепочку и кулон. В ярости Рена влепила подонку пощёчину, и тот, взбеленившись, приказал: «Яндырын буну!»* . Со всех сторон посыпались удары, Саида заголосила, что девушка не армянка, азербайджанка, но её снова никто не слушал, да и сама Рена не говорила: я, мол, не армянка. Кто-то даже спросил её: «Ты азербайджанка?», и она, вся в крови, замотала головой: «Нееет». « Раз она с ними,- кричал тот,- значит одна из них. Она не азербайджанка! Она армянка! И с ней нужно поступать именно так: и бить, и насиловать, и сжечь…».
Саида видела, как её, грубо колотя об стены, с воплями тащили на первый этаж. Её сожгли… Я не хотел тебе говорить это там…
Меня душил неотвязный спазм, удушье, как мучительная щекотка, то перехватывало, то вдруг отпускало горло, сердце болезненно сжималось от
*Яндырын буну (азерб.).- Сжечь её!
давящей тупой тяжести, меня охватывала слабость, и холод, ошеломительный холод одиночества расползался по душе…
Слева стояло здание аэропорта, там за стеклянной стеной второго этажа в белом платье стояла Рена с волосами, распущенными по плечам, и беспрестанно махала рукой в знак прощания. «Вечного прощания», – со скорбью и безмерной болью мелькнуло в голове, и нежданно мне припомнился звенящий золотом колокольчик её голоса: я сделаю, сделаю это,
вот увидишь, уйду и не вернусь, если ты захочешь, и на глаза навернулись жгучие слёзы…
Зармик говорил так же глухо, голос его доходил до меня из дальнего далека. Потом я расслышал:
– Ну ладно, пойду, трап уже убирают.
Прозвучал тяжёлый хлопок закрывающейся двери. Немного погодя самолёт затрясло, потом он медленно заскользил по бетону, на миг остановился, снова затрясся, с грохотом помчался по взлётной полосе и разом оторвался от земли.
Всё внизу было мертво: море, голые леса, горы и ущелья, где неподвижно висела прозрачная дымка, сменяющие друг друга заснеженные пустынные равнины, немое, отливающее кровью солнце.
*******
В аэропорту «Домодедово» я прошёл на стоянку такси. Откуда ни возьмись объявился милиционер и, вскинув руку к козырьку, потребовал: «Ваши документы». Я попробовал объяснить ему, что чудом спасся в жутких бакинских погромах и документов у меня нет, а потом продемонстрировал всё, чем богат, – те самые пятьдесят рублей, которые дал мне в последнюю минуту Сиявуш. Он взял деньги, повертел их в руке и сказал: «Добавь ещё хотя бы десятку, нас трое, поделим поровну». Я обернулся; поодаль стояли два милиционера, сытые, как и этот, крупные, высотой и толщиной что твой шкаф, и смотрели на нас.
– У меня ничего больше нет, – устало сказал я. – Вы же видите, я от смерти спасся.
– Так и быть, иди, – разрешил милиционер, забирая мои полсотни.
Я стоял униженный и оскорблённый и не знал, что делать.
– Ты куда едешь? – спросил кто-то.
Я повернулся на голос. Заговорил со мной кавказец среднего роста, с чёрными усами, из-под бровей сочувственно смотрели на меня глаза.
– Никуда, – сказал я. – Просто стою.
– Видел я, как мент захапал у тебя деньги. Так вот они и обирают народ. Поехали, – предложил он.
– Куда? Денег у меня нет.
– Знаю, что нет, – сказал он. – Не беда, поедем. Из Дагестана я. Я аварец, соотечественник Расула Гамзатова. Пустяки, в другой раз отдашь.
… Открыв дверь, мама с недоумением взглянула на меня.
– Вам кого? – неуверенно и чуть испуганно спросила она.
– Это я, мама, – сказал я. – Не узнаёшь? – и попробовал улыбнуться.
– Вай, Боже, – вскрикнула мама. – Во что ты одет, где твоиодежда, что с тобой сделали? Боже, Боже, и волосы поседел. – Она с плачем упала мне на грудь. – В каком ты виде, мама родная, на кого ты похож… Уедем, уедем скорей, – сказала она. – Скроемся, пропадём, исчезнем из этой проклятой страны…
Март–октябрь 1990 г.
Ленинград
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Прежде чем беженцы-армяне, бросив дом, убитые горем и всеми покинутые, как гонимое оголодавшими дикими зверьми стадо, рассеются по всему миру — от холодной негостеприимной России до далёких американских штатов, — прежде чем те, кто не в силах окажется вынести бедствие и умрёт в дороге, а пыль забвения, как вечная беспросветная ночь, укроет их имена, как имена тех, чьи тела торопливо убрали с улиц и из домов Сумгаита и Баку, и они так и остались в списках без вести пропавших…
Прежде чем Демичев, по просьбе Багирова, первого секретаря ЦК компартии Азербайджана, прикажет командиру вошедших в Сумгаит подразделений Краеву не применять оружие против озверелых убийц и в считанных шагах от проходившей по городу бронетехники во дворе многоэтажного здания семидесятилетнюю Пирузу Мелкумян из деревни Гарнакар Нагорного Карабаха на потеху свесившимся с балконов любопытным соседям заставят плясать голой, пока не воткнут в неё железный прут и её душераздирающий крик не послышится из дальнего далека, прежде чем ударом ножа рассекут живот беременной двадцатишестилетней Лолы Авакян, чтобы выиграть спор — мальчик или девочка, прежде чем грудного младенца убитой на троллейбусной остановке Вики Маркосян, обвязав ему шею ремнём, поволокут по улицам, прежде чем в квартире Ованнисянов на глазах лежавшего в крови мужа изнасилуют жену, а сыновьям, инженеру с учителем, прикажут совокупиться с собственной матерью и, отказавшихся, бросят их на глазах вытащенных на улицу отца с матерью в огонь… Прежде чем то же самое не проделают с Меджлумянами и то же, изнасиловав и зарезав целое семейство с родителями и детьми, — в квартире Мелкумянов по соседству с набитым солдатами общежитием, прежде чем их похоронят на бакинском кладбище «Волчьи ворота» в холодный и дождливый день под присмотром танков и русских солдат и одна из чудом уцелевших невесток, увидев стоявшую невдалеке милицейскую машину, с глухими рыданиями скажет: это они, они всё сделали… И прежде чем выброшенные из армянских квартир вещи сожгут наскоро на городской свалке, а разгромленное жильё отремонтируют с той же поспешностью, чтобы скрыть следы погромов и чтобы Бог не увидел этих злодеяний и не сказал злодеям: коль скоро вы сотворили сие, то будете прокляты всеми скотами и полевыми тварями и поползёте на животе своём и будете пожирать землю во все дни жизни вашей… И прежде чем на заседании бюро ЦК, а на следующий день — на пленуме Муслимзаде перечислит одно за другим имена организаторов сумгаитской резни, а тот самый Катусев проигнорирует телеграмму участвовавших в заседании армян генеральному прокурору Теребилову, и прежде чем он сорвёт следствие, переправив часть дел в дальние города, но часть оставив таки в Сумгаите, прекрасно сознавая, что родственники убитых и пострадавшие не смогут отправиться в эти дальние города, тем более в Сумгаит, где были зверски замучены и сожжены в уличных кострах их родные и где живут все участники злодейств…
Прежде чем безнаказанных погромщиков провозгласят на бакинских митингах национальными героями, а Сумгаит — городом-героем, прежде чем спустя несколько месяцев после резни Москва, словно бы в пику армянам, признает Сумгаит победителем всесоюзного соцсоревнования за большие успехи по воспитанию молодёжи в коммунистическом духе, а Горбачёва, который так и не дал политической оценки резне в Сумгаите и даже не счёл нужным хотя бы двумя словами пособолезновать родным невинных жертв, удостоят Нобелевской премии мира… И прежде чем с площади перед домом правительства, украшенной гигантскими портретами Ататюрка, Гейдара Алиева и героя сумгаитской резни Ахмада Ахмадова, сто пятидесятитысячная толпа, как зловещий чёрный поток, потечёт к домам армян и затеет массовые погромы в Баку, где снова сожжёт на кострах невинных людей, а на привокзальной площади займётся готовкой шашлыков из девушек-армянок, угощая ими прохожих, из многоэтажных зданий будут выбрасывать стариков — инвалидов войны и пожилых женщин, завладевая их квартирами, прежде чем сотрудники милиции, зверским образом изнасиловав Арфеню Хачиян из восьмого дома по улице Солнцева, утопят её в море, восьмидесятилетнего Георгия Шафирова с улицы Низами, двадцать три, забьют до смерти в подъезде его дома, а Софью Бадалян, девяноста лет от роду, Елену Ванецян, профессора Николая Давтяна и первого председателя Союза художников Азербайджана Шмавона Мангасарова, Героя Советского Союза полковника Гранта Авакяна, бывшего главного художника Бакинского армянского театра Арсена Ованнисяна и ещё многих и многих босыми и полураздетыми погонят по улицам, избивая, к последнему их пристанищу, прежде чем жену погибшего под Москвой Героя Советского Союза Ованнеса Даниэляна Саиду Аванесян на глазах у прикованного к постели сына-инвалида изнасилуют герои — боевики народного фронта, прежде чем в собственных квартирах зарежут Хачатура Григоряна и Германа Оганяна, Ивана Хачатурова и Лену Бадалян, мать и дочь Зарвард и Евгению Пашаян, задушат Григора Григоряна, а перед тем на его глазах целой оравой изнасилуют его дочь Нору, прежде чем в Баку случайно совершит посадку самолёт, летевший из Ашхабада в Ставрополь, и Валерия, сына карабахского собкора армяноязычной газеты «Коммунист» Манвела Ованнисяна, выволокут из самолёта, ограбят, будут, избивая днём и ночью, мучить три недели, благодаря деньгам и друзьям освободят из этого неописуемого ада, и тот, кое-как добравшись до Пятигорска, там уснёт вечным сном, прежде чем рядом с домом правительства в коопертивном писательском доме на глазах у сына-школьника, двух дочерей и жены-азербайджанки Эльмиры Джавадовны Гусейновой замучат сотрудника газеты «Коммунист» поэта Аркадия Хачатряна родом из деревни Бадара Аскеранского района, а Рауфа Али-оглы Алескерова забьют ногами, требуя отказаться от матери-армянки, прежде чем с паромов по пути в Красноводск сбросят в море изнасилованных женщин и девушек, прежде чем бывшему командиру партизанского соединения Арутюну Сагумяну выколют глаза, чтоб он больше не смотрел на Альят, где покоились его родные, убитые в резне 1918-го, и выкинут его с восьмого этажа, прежде чем пятнадцать-двадцать погромщиков от четырнадцати до шестидесяти лет изнасилуют заслуженную журналистку Нору Багдасарян, а сын публициста Хорена Боджикяна будет четвертован на глазах русской жены, детей и отца, которому накажут навсегда запомнить это… И прежде чем без движения стоявшие вблизи Баку войска с недельным опозданием войдут в город якобы спасать армян… Прежде чем против этих войск высыплет неисчислимая свора зверей-людоедов, беззащитных армян, привязанных друг к другу, погонят навстречу танкам и сзади мерзко будут стрелять по танкам, провоцируя на ответный огонь по невинным людям, прежде чем из неисчислимой этой своры несколько десяток будут уничтожены, и словно бы нарочно оскорбляя память тысяч невинных армян и десятка убитых русских солдат, этих убийц и людоедов объявят святыми мучениками и с превеликими почестями похоронят на холме Парка имени Кирова —над могилами некогда христианском армяно-русском кладбище, и прежде чем советские спецназовцы обнаружат колодец, набитый трупами русских и армян, а вандалы варварски не закатают под асфальт все армяно-русское кладбище Баку, а надгробные памятники усопших не переделают на бордюры тротуаров улиц города и облицовку станций метро…
Прежде чем Гейдар Алиев при поддержке народного фронта, турецкой террористической структуры «Серые волки», своих московских единомышленников и в союзе с Эльчибеем и героем карабахской войны Суретом Гусейновым из родного Нахичевана победным маршем вернётся в Баку, чтобы выгнать президента Абульфаза Гадиргулы Алиева-Боюкбея-Эльчибея в деревню Келеки далёкого Ордубадского района, в прошлом покинутый армянами городок Кагакик*, а Сурета Гусейнова водворить в Гобыстанскую тюрьму близ Баку… Прежде чем на многолюдном митинге в Сумгаите Алиев поинтересуется: «Бяс ханы бизим Хыдыр?»** и жёгший на кострах беззащитных армян Хыдыр Алоев, собственно, поэт и директор школы Хыдыр Алоев-Аловлы, выйдя из толпы уже без лайкового плаща, бороды и чёрных очков, улыбающийся, гордый и счастливый пойдёт навстречу пейгамбару*** , и пейгамбар тепло обнимет его, похлопает по спине и назначит главой городской исполнительной власти Сумгаита и депутатом милли меджлиса… Прежде чем незадолго до своего ареста министр нацбезопасности Азербайджана Вагиф Гусейнов, намекая на некоторых политических деятелей из Народного фронта республики, заявит, что январские события 1990 года в Баку и события в Ходжалу — это дело рук одних и тех же людей, а бывший главный прокурор Азербайджана Ильяс Исмаилов объявит с трибуны милли меджлиса, что организаторы сумгаитского и бакинского погромов сидят сегодня в этом зале с мандатами, удостоверяющими их парламентскую неприкосновенность, а всем известный Джордж Сорос в своей книге «Концепция Горбачёва» отметит, что не так уж оторваны от реальности предположения, что первые армянские погромы в Азербайджане были инспирированы местной мафией, управляемой бывшим руководителем КГБ Азербайджана Гейдаром Алиевым, чтобы создать тупиковую ситуацию для Горбачева и чтобы, разумеется, снова взять власть в свои руки, чего он и достиг, в Сумгаите, Баку, Кировабаде и других местах во имя власти и славы, беспощадно проливая кровь тысяч невинных талышей, лезгин, аварцев, парсийцев и турок-месхетинцев, не щадя даже своих соотечественников в самом Ходжалу и пригороде Агдама… И прежде чем по инициативе командира квартировавшей в Кировабаде 23-й мотострелковой дивизии Советской армии генерал-майора Александра Будейкина и при участии азербайджанского ОМОНа советские каратели в сопровождении танков начнут чудовищную операцию «Кольцо» — акт государственного терроризма против мирного населения —около пятидесяти армянских сел Северного Карабаха, изгоняя армян из всех населённых пунктов Шаумянского района и десяток сел Мартакерта, сровняют с землёй деревню Вагуас и, не щадя ни стариков, ни детей, истребят жителей Мараги, а всех прочих отправят за решётку, где они будут ежедневно подвергаться пыткам, а многие бесследно пропадут, и прежде чем обуреваемая традиционной манией грабить, и насиловать, и захватывать в домах армян всё, что те нажили, дикая толпа с идущими следом армейскими танками ворвётся в эти селения и с ликующим рыком кинется врассыпную хватать армянское добро… Прежде чем достойный наследник таких армяноненавистников, как Григорий Голицын, великий князь Николай, Лобанов-Ростовский и ничтожный Величко, кровожадный палач Владислав Сафонов набьёт тюрьмы мирным населением взятого в кольцо блокады Карабаха, прежде чем в маленьком аэропорту Ходжаллу, близ Степанакерта, пассажиров-армян начнут ежедневно избивать и всячески унижать, прежде чем доверенный советник Бабрака Кармаля и Наджибуллы Виктор Петрович Поляничко, этот Талаат-паша наших дней, возглавив разбойничьи банды, разрушив тысячелетние армянские селения Мартакерта, Гадрута, Шаумяна, Бердадзора и Геташена, примется давить их население гусеницами танков, сдирать скальпы с мужчин, а юных девушек на глазах их утопающих в крови родителей дарить своим дружкам из народного фронта, прежде чем, должно быть, именно за это вельзевул Горбачёв телеграммой поздравит с днём рождения это чудовище и удостоит его звания героя, а семерых его сподвижников — убийц из ОМОН МВД Азербайджанской ССР наградит орденом Красной Звезды, а на осаждённый Степанакерт обрушится ни днём, ни ночью неиссякаемая лавина снарядов…
Прежде чем Александр Катусев покончит самоубийством, а Поляничко и герой СМЕРШа Зия Буниятов лягут в землю от пули мстителя — один в горах Осетии, другой — на пороге своего дома… И прежде чем героический и долготерпеливый Карабах, теряя надежду и веру в человеческую справедливость, зарычит от ярости и двинется насмерть биться с супостатом за свободу родного края, как некогда Сасун и Васпуракан, как Мусалер и Сардарапат, сожмёт кулаки, восстанет и ценой жизни шести тысяч лучших, отважнейших своих сынов подавит все огневые точки врага и высвободит из плена священную свою землю, а привыкшее сражаться в Сумгаите
==============================
* Кахакик — букв.: городок (арм.).
** Бяс ханы бизим Хыдыр? — А где наш Хыдыр? (азерб.).
*** Пейгамбар — пророк (азерб.).
и Баку с несчастными стариками и беспомощными старухами стотысячное воинство всяких там асадовых, сто тысяч вояк и в их числе пакистанцы, свыше трёх тысяч афганских моджахедов исламистской террористической организации Афганистана, возглавляемой Гульбеддином Хекматияром, турки, украинцы и чеченские наёмники во главе с Шамилем Басаевым, Гелаевым, Хаттабом и Салманом Радуевым, предвидя крах, в ужасе драпанут из Карабаха без оглядки в Баку, и за блистательное это бегство сто тринадцать человек удостоятся звания национального героя Азербайджана… И прежде чем истерзанная многострадальная арцахская земля сызнова вздохнёт и расцветёт, а на мирных отчих полях опять зазвучит древний и бессмертный дедовский Оровел — песня пахаря…
Итак… прежде чем беженцы-армяне, храня в душе светлый и прозрачный образ любимого, мало-помалу отдаляющегося берега, где у них были кров и родина, как голодное, гонимое хищниками стадо, рассеются по миру от холодной негостеприимной России до далёких Юты, Мичигана, Торонто и Род-Айленда, и прежде чем те, кто, не в силах перенести лишения и бедствия, покончат с собой или умрут в дороге от голода, холода, неисцелённых ран и болезней, и пыль забвения, словно вечная ночь, тьмой безвестности покроет святые их имена, случилась эта вот история — как гимн и реквием любви и самосожжения.
ОТ АВТОРА
«Отдаляющийся берег» – реальная, подлинная история. И то, что повествование в книге ведётся от первого лица, не случайно – это история моей исковерканной жизни, история каждого из моих несчастных собеседников, потому что автор от их имени говорит об оборванных их мечтах и безвестных муках.
Рассказывая о душевной боли Гурунца – большого, неповторимого человека, – я хотел ещё раз обнажить причину, породившую гнев Карабаха, – армяноненавистническую разнузданность руководства Азербайджана. По словам Гурунца, всё, о чём он так страстно говорил, уже давно им написано, но не напечатано, и, как он повторял, мало надежды, что когда-нибудь удастся напечатать. Не знаю, смог ли Леонид Караханович опубликовать эти истории. Если нет, пусть они воспринимаются как дань уважения и любви его бессмертной памяти.
Я приношу глубокую благодарность двадцатидвухлетней Марине Ованнисян, с которой мы встретились в Будённовске; рассказывая, она заново пережила чудовищный сумгаитский кошмар, когда в день рождения нелюди на глазах истерзанного отца скотски изнасиловали мать, младших сестёр и её. Я благодарен Эмме Саргсян; убитая горем, она беспрерывно рассказывала, как сожгли её мужа, плакала и продолжала повторять, что после его смерти ей незачем жить… Выражаю свою признательность моему дальнему родственнику Бармену Бедяну за его рассказ в те дни в здании горкома. Обезображенный побоями, со страшными синяками на лице, он сквозь слёзы, показывая свои мозолистые руки строителя, говорил, что возвёл в Сумгаите десятки жилых домов и что сотрудники милиции схватили его и сдали толпе убийц.
Этой книгой автор обязан очень и очень многим, в том числе и Вильяму Русяну с проспекта Ленина, 32 в Баку. Он говорил: те, кто не смог ускользнуть от озверелой своры, ничего уже не расскажут, кое-что способны рассказать лишь те, кто чудом уцелел в том аду. И я уговорил его записать, обязательно записать эти свидетельства.
Выживший после массовых бакинских убийств, которые начались тринадцатого января, он, своим достоверным рассказом очевидца, помог воссоздать подлинную картину страшной армянской резни.
Вечная память безымянным мученикам!
Вечная слава выжившим страдальцам!
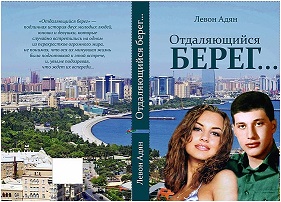
One thought on “Левон Адян. Отдаляющийся берег (роман-реквием, часть 2)”