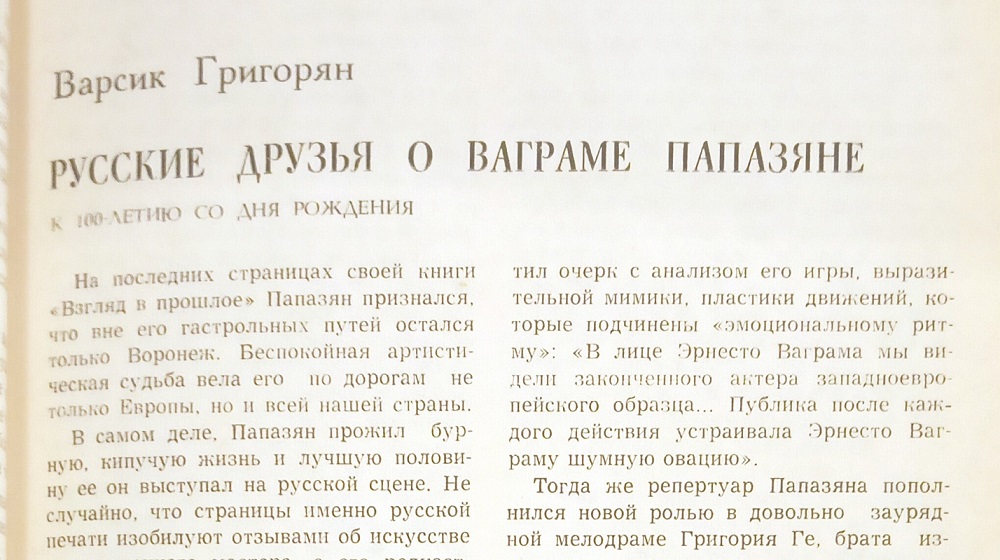К 100-летию Ваграма Папазяна в 1988 году в первом номере журнала «Литературная Армения» была большая статья о нём. Приводим её впервые в Интернете.
В ней, в частности, говорится о рецензии в газете 1915 года, о первой встрече Папазяна с А.В. Луначарским и разрешении сделать первое выступление в Большом театре на армянском, приведены трогательные слова Ваграма Камеровича о блокадном Ленинграде, сказано о его поездках в десятки небольших городов России, об оценке его творчества со стороны разных деятелей, причем часто отмечается благородство, в т.ч. Вл. И. Немировичем-Данченко, говорится о запрете его выступления в 1934 году в фашистской Германии и т.д. Статья 35-летней давности не утратила своей значимости, особенно, в условиях, когда память о Ваграме Папазяне, к сожалению, предано забвению в России и Петербурге.
К слову, в этом номере журнала опубликованы также стихи Амо Сагияна и Мкртича Мкртчяна, повесть Зория Балаяна, рецензии на новую книгу Ст. Рассадина и др.
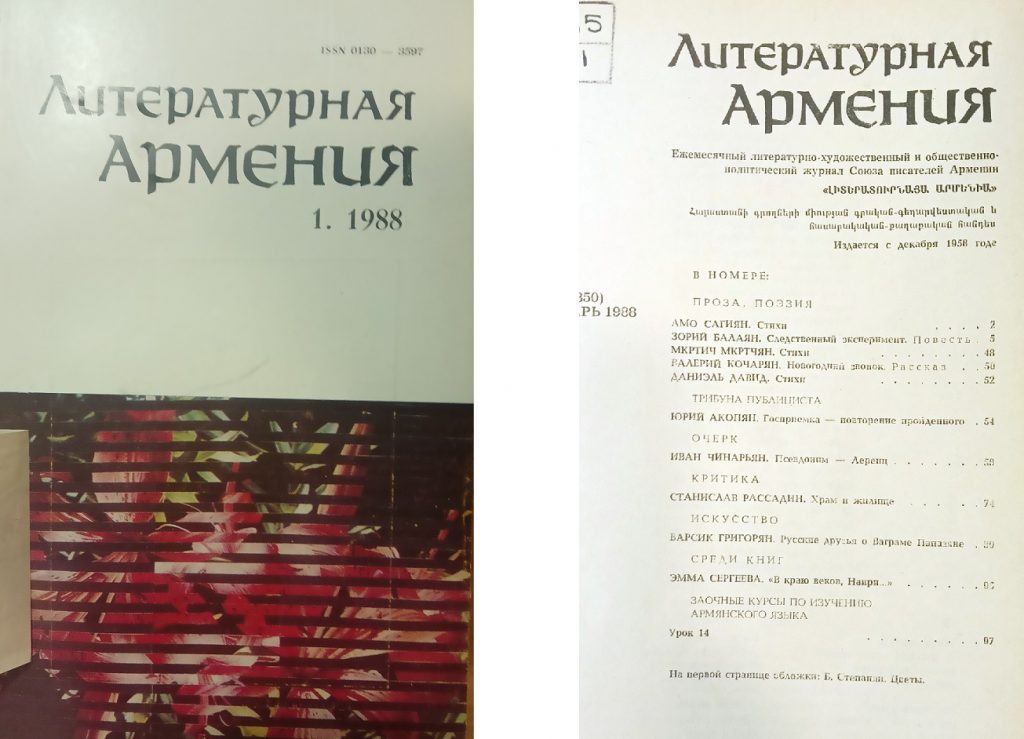
Варсик Григорян
РУССКИЕ ДРУЗЬЯ О ВАГРАМЕ ПАПАЗЯНЕ
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖАЕНИЯ
Перевела Ю. Григорян
«Литературная Армения», №1, 1988 г., с. 89-94.
На последних страницах своей книги «Взгляд в прошлое» Папазян признался, что вне его гастрольных путей остался только Воронеж. Беспокойная артистическая судьба вела его по дорогам не только Европы, но и всей нашей страны.
В самом деле, Папазян прожил бурную, кипучую жизнь и лучшую половину ее он выступал на русской сцене. Не случайно, что страницы именно русской печати изобилуют отзывами об искусстве прославленного мастера, о его редкостном артистическом таланте, культурной деятельности, литературном даре.
Перелистаем эти страницы. Начнем с «Армянского вестника» (№ 43 за 1915 год), выходившего в Москве на русском языке. В очерке о театральной жизни Тифлиса рецензент говорит о Сирануйш в роли Гамлета, а потом обращает внимание читателей на нового талантливого артиста, который выступает как с русской, таки с армянской труппой. «Главное достоинство игры Папазяна, — пишет он, — выдержанная школа и необыкновенное изящество, чему способствует счастливая внешность и благородные манеры».
В конце десятых годов в Россию из Европы пришел кинематограф. Один из пионеров нового вида искусства Александр Ханжонков в свои первые фильмы приглашал известных артистов, таких как Ева Баранцевич, Рындина и других. Молодой талантливый Папазян также снимался в картинах Ханжонкова, исполняя роли блестящих молодых людей под псевдонимом Эрнесто Ваграм. Благодаря этим фильмам приглашенный из-за границы армянский артист стал популярен в России.
В Ростове-на-Дону, где Папазян играл Кина, «Театральный курьер» поместил очерк с анализом его игры, выразительной мимики, пластики движений, которые подчинены «эмоциональному ритму»: «В лице Эрнесто Ваграма мы видели законченного актера западноевропейского образца… Публика после каждого действия устраивала Эрнесто Ваграму шумную овацию».
Тогда же репертуар Папазяна пополнился новой ролью в довольно заурядной мелодраме Григория Ге, брата известного живописца, под названием «Смертная казнь». Роль Года автор написал для себя, но увидев игру Папазяна, отказался от этой мысли.
Сезон 1926—27 годов Папазян по просьбе руководства Армянской Государственной драмы провел в Тифлисе. Его участие в спектаклях чрезвычайно благотворно сказалось на делах разваливавшегося театра. И, кроме того, сезон оказался плодотворным для самого Папазяна. Прежде всего он перевел с английского «Макбета» Шекспира и «Дон-Жуана» Байрона; добавил к основному репертуару «Овод» Э.-Л. Войнич и «Капказ-тамаша» Егише Чаренца; заново перевел и поставил «Маскарад» Лермонтова, удостоившись самых хвалебных отзывов как за постановку драмы русского поэта, так и за исполнение роли Арбенина.
Гастроли в Кисловодске летом. 1927 года способствовали еще более широкому распространению громкой славы Папазяна. Его выступления в трагедиях Шекспира перед легкомысленной курортной публикой известный русский трагик Николай Россов назвал «оазисом», и именно так он озаглавил большой очерк, отправленный в московский журнал «Рабис» 2 августа 1927 г. «Много мне пришлось видеть исполнителей Шекспира и отечественных, и иностранных, и сколько же их обожглось на нем…
… Положительно в последние двадцать лет я не видел еще такого Отелло. Каждый жест, каждая поза, каждый взгляд прекрасных больших глаз артиста могли бы послужить любому художнику-живописцу материалом для редких картин человеческой красоты.
Не раскрывается ли через посредство подобного артиста легко и убедительно величие Шекспира, показавшего нам в своем мавре не прямолинейного грубого ревнивца, а благороднейшее сердце, полное безграничной веры в лучшие качества людей и погибшее за это доверие».
Вспомним, что в свое время Николай Россов был известным исполнителем роли Гамлета, что его называли «Дон Кихотом» русской сцены, и тогда авторитетность его оценок не вызовет сомнений. К тому же, в его статье не одни восторги. Чрезвычайно лестно высказываясь о роли Отелло, Россов не оставлял без внимания и «недостаточно сильный» голос артиста. А в исполнении роли Кина он нашел злоупотребление актерской техникой.
Статьей Россов не ограничился. Он послал два письма К. С. Станиславскому. В одном из них он писал:
«На днях в Москве назначены в Большом театре гастроли армянского артиста Папазяна. Очень советую посмотреть его в Отелло. После Сальвини я не видел лучшего Отелло, чем Папазян. Необычайное чувство меры, волнующий темперамент, строгость рисунка, живопись, музыкальность голоса и жеста, удивительное чутье стиля эпохи, слепящая яркость красок — перед вами как бы живое воплощение в человеке яркого, жутко прекрасного бенгальского тигра. Притом решительно небывалая особенность даже у мировых актеров: Папазян в Отелло нигде не кричит и тем не менее впечатление должное…»
В начале 1926 года Папазян по семейным обстоятельствам поспешил на берега Босфора, туда, где родился. В следующем году он вернулся в Севастополь, где жила его жена Валентина. Сезон в Севастополе и Симферополе был чрезвычайно плодотворным. Но он с нетерпением ждал вестей из Москвы. И вот наконец в начале 1928 года пришло приглашение на выступление в Большом театре.
В середине января Папазян приехал в Москву. На следующий день его принял Луначарский, и тогда же было решено первый спектакль играть на армянском языке. Луначарский сказал, что московский зритель видел и слышал многих иностранных артистов, ему будет интересно послушать, как Шекспир звучит на армянском.
На следующий день в одиннадцать часов Папазян не без волнения явился на репетицию в Малый театр. Ее вел режиссер С. Ланский с суфлером Тинатин Сундукян, дочерью великого армянского драматурга. Репетировали около месяца. Первый же спектакль, состоявшийся в Большом театре 26 марта 1928 года, прошел под восторженные овации зрителей. В Москве с участием Папазяна состоялись не два, как предусматривал договор, а десятки представлений, литературных вечеров, лекций. Партнерами его по сцене были Елена Гоголева (Дездемона), С. Головин (Яго), Н. Рыбников (Кассио), Е. Найденова (Эмилия).
Через много лет, в 1972 году, в дни гастролей Малого театра в Ереване, Елена Гоголева на встрече с театральной общественностью, в выступлениях по телевидению рассказывала о своем партнере. И нужно было видеть, с каким восторгом она говорила! О своих впечатлениях от спектаклей с Папазяном эта знаменитая советская актриса писала ещё в 1957 году в альманахе «Дружба» (М. 1957, с. 678).
«Наступил день спектакля. Волнение Папазяна было огромно. Это видели мы, его партнеры. Это был трепет настоящего художника. Пусть его знали многие столицы Европы, пусть его увенчали лаврами в Англии, в шекспировской Англии, — на этот раз Папазян встречался с новым зрителем, чутким, требовательным, жадным, по-новому воспринимающим классическую трагедию. И Папазян это хорошо понимал. Внешний облик Отелло-Папазяна был великолепен.
Он был изумительно красив той восточной красотой, которая так ярка и убедительна была в соответствии с природными данными Папазяна. Полный благородства монолог перед сенатом уже сразу покорил весь огромный зал Большого театра…
И вот последний акт…
Мольба Дездемоны о пощаде шла на самой авансцене, и вот в какой-то момент я, видя только эти страшные безумные глаза, в ужасе уже сжималась на полу в беспомощный комочек и, в следующую секунду уже подхваченная с земли не сильными руками человека Отелло, а каким-то могучим злым вихрем, на какое-то мгновение задержалась в воздухе над его головой; и потом он бросал меня на постель, сам с молниеносной быстротой, как кошка, вскакивал за мной, упираясь коленом мне в грудь и душил свою Дездемону. Этот момент технически так был разработан у Папазяна, что, несмотря на рискованность движения, некоторую акробатичность, я ни разу за все спектакли не почувствовала ни малейшего ушиба, а со стороны это было настолько естественно и прекрасно в своем диком порыве, что сделать это мог лишь такой необыкновенно пластичный и красивый актер, как Папазян, наполнив весь этот трюк громадным правдивейшим чувством, подлинно шекспировским темпераментом.
… Я счастлива, что в дни своей юности встретилась с таким большим мастером. Армянский народ и все мы — люди искусства — должны гордиться, что у нас есть такие чудесные таланты как трагик Ваграм Папазян».
Деятельность Папазяна в Москве не ограничилась только участием в спектаклях.
В архиве Папазяна сохранился пригласительный билет на одну из его лекций, названную «Экспликация актерского мастерства». Согласно программе, указанной в билете, Папазян начал свой вечер с Софокла и Эсхила и дошел до наших дней, рассказывая о стилях и школах актерской игры, об их наиболее известных представителях, сопровождая все это показом соответствующих отрывков.
В архиве мастера, хранящемся в Музее АН Армянской ССР, есть множество пригласительных билетов, программ, абонементов, выпущенных в это время в Москве специально к вечерам Папазяна. Здесь же находится одна из фотографий Евгения Багратионовича Вахтангова, на которой деятели II студии МХТ сделали надпись: «Московский художественный театр II приносит Вам свою восторженную благодарность за праздник спектакля «Отелло» в нашем театре. М. Чехов, И. Благонравов, М. Дурасова, И. Берсенев».
После блестящих успехов в Москве Папазян едет в Ленинград — в прекрасную Северную Пальмиру. Ему предстояли гастроли в театре в «Комедия» на Невском проспекте. Репетиции вёл режиссер Степан Надеждин.
После первого же выступления журнал «Жизнь искусства» (1929 г.) поместил большой очерк видного театроведа Стефана Макульского: «… Папазян, несомненно, выдающийся артист. Его исполнение роли Отелло глубоко своеобразно и поучительно… Образ венецианского мавра продуман и проработан им до мельчайших деталей. Папазян делает любопытную попытку переместить роль Отелло в новый план. Его Отелло ни на минуту не забывает, что он черен и в черноте своей видит причину всех своих зол и бедствий. Актерская техника Папазяна весьма значительна. Голос Папазяна, лишенный звучности и силы, является послушным инструментом, которым он пользуется на редкость мастерски.
… Папазян обладает гибким и тренированным телом, на редкость подвижным лицом. Его мимика распространяется на все лицевые мускулы: глаза, рот, шея, весь корпус у него играет, разъясняя зрителю непонятные слова. Экономия выразительных средств с целью придания им максимальной впечатляющей силы — вот главная особенность актерского дарования Папазяна! Он умный и тонкий актер».
Художественный руководитель театра, замечательный артист Ю. Юрьев пригласил Папазяна сыграть Отелло в Ленинграде задолго до того, как тот появился в «северных столицах». Это случилось в 1927 году в Одессе. В тот год в Одессу на гастроли прибыл Ленинградский Александринский театр. Одновременно были объявлены и спектакли Папазяна. Конкуренция накалила атмосферу, любители сенсаций предвкушали конфликт и провалы, но артисты их разочаровали.
Юрьев первый отложил свой спектакль «Отелло» и пошел смотреть Папазяна, послав ему большую корзину белых роз. А после представления лично явился за кулисы поздравить собрата. На следующий день Папазян не стал играть своего «Отелло» и приветствовал русского артиста прямо на сцене перед началом спектакля склонившись перед ним с огромной корзиной алых роз. Всё это совершенно покорило зрителей. В. Папазян очень полюбил Юрьева, замечательного артиста и человека широкой души. И хотя печать, сравнивая их спектакли, нашла, что в Александринском театре есть всё, кроме Отелло, а у труппы Папазяна только Отелло, ничто не поколебало дружественного расположения двух артистов. Тогда Юрьев и пригласил Папазяна в Ленинград. Пригласил на месяц, однако срок растянулся до двух лет. В знак особого уважения армянскому мастеру была предоставлена гримуборная, обычно предназначенная мировым знаменитостям. Но Юрьев попросил его играть и по-русски. Под руководством преподавателя, рекомендованного Луначарским, Папазян делал большие успехи в изучении русского языка. И, чтобы пойти навстречу замечательным ленинградским зрителям, он согласился. На представление приехала из Севастополя жена Папазяна, Валентина, немало помогавшая супругу в изучении русского языка. Нельзя не оценить по достоинству и партнеров Папазяна в театре «Комедия». Дездемону играла Вольф-Израэль, Яго — Вивьен, Кассио — Ниреев.
Журнал «Жизнь искусства» пишет (№ 51, 16 декабря 1928): «Сам Папазян называет себя трагиком, но вряд ли этот термин, воскрешающий в нашей памяти актерское мастерство прошлых веков в образах Кина, Гаррика, Каратыгина, Барная, Сальвини и Росен, — вряд ли этот термин приложим в полной мере к оригинальному ультрасовременному искусству Папазяна… Актер итальянско-французской школы, закончивший свое театральное образование под непосредственным влиянием таких мастеров, как Элеонора Дузе, Тина ди Лоренцо, Цаккони и Новелли, Папазян, следуя в известной мере трагической традиции, в то же время преодолевает ее, совершенно своеобразно раскрывая шекспировские образы и приближая их к нашему миропониманию».
Благодаря режиссеру Степану Надеждину и труппе театра «Комедия» Папазян получил возможность сыграть Гамлета.
Эта роль ставила перед армянским артистом вопрос «быть или не быть» ему признанным в Ленинграде. Трудность состояла в том, что всего два года назад здесь гастролировал знаменитый Александр Моисси — «Гамлет ХХ века». Кроме того, в памяти ленинградцев был ещё ярок обаятельный Гамлет, сыгранный Самойловым.
Гамлет не только не умалил славы Отелло, но напротив, стал поводом для нескончаемых споров между критиками и поклонниками о том, какой спектакль лучше.
Было бы неверно считать Папазяна великим исполнителем только роли Отелло. В 20—30-е годы в молодой советской стране шли поиски новых форм искусства, многие склонялись к полному отрицанию старого. Своеобразная интерпретация Папазяна трагедий Шекспира стала одним из тех мостов, который должен был связать классическое наследие с эпохой нового искусства.
Сегодня театр знает не одного действенного, активного Гамлета. Таким представили его Пол Сколфилд, Лоуренс Оливье, на армянской сцене — Вагарш Вагаршян. А сорок лет назад этот герой Шекспира воспринимался как невольно страдающая личность. На этом фоне Гамлет Папазяна явился откровением, заставившим изменить традиционное мнение о печальном датском принце. Газета «Рабочий и театр» писала: «… Гамлет Папазяна — это активный борец, пылкий протестант, сильный противник. Ненависть Гамлета выражается лишь чувством отвращения и презрения. Папазян претворяет эту ненависть в действие. В притворстве Гамлета, являющемся для него защитой, Папазян видит лишь тонко задуманный стратегический план борьбы с противником. Быстрая речь, расчетливость жеста и движений, открытая насмешка над врагом, нескрываемая иронической улыбкой ненависть, — рисует Гамлета в исполнении Папазяна натурой более активной, более жизнеприемлющей, чем это обычно бывает».
Спустя годы в послесловии к книге Папазяна «Жизнь артиста» Марк Левин так воспроизводит свои впечатления: «Я видел активных Гамлетов, которые заносили кинжал в монологе «Быть или не быть» скорее над животом Клавдия, чем над горлом века.
Гамлет Папазяна тоже держал кинжал, но в его руках он походил не на оружие воина, а на четки мудреца. Правда, молодой, изящный, необыкновенно красивый, наделенный отнюдь не жантильной, а мужественной красотой, этот Гамлет как-то не увязывался с жаждой покоя…
… Он терзался сомнениями, он раздумывал, играл кинжалом, ища в его стали, как в зеркале, разгадку своих сомнений. Но в размышлениях Гамлета-Папазяна слышался скорее голос разума, подверженного предрассудкам века, чем зов сердца, еще способного жить, любить, оказать сопротивление и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними».
Успех у ленинградцев окрылил Папазяна. Он собрал труппу и, назвав ее «Театр классики», выехал на гастроли по необъятной нашей стране. Большие и малые города Урала и Сибири, трудные дороги через тайгу. Мысль о том, что, возможно, Шекспира впервые играют в этих городах, вдохновляла его, а восторженные отклики публики и прессы, неизменно сопровождавшие выступления, воспринимал как вознаграждение своих трудов.
Дальние и беспрерывные гастроли едва утоляли его ненасытную жажду игры, наполняли содержанием ежедневные творческие взлеты. Внимательное изучение откликов на его спектакли убеждает, что одна и та же роль в разных залах и в разных обстоятельствах звучала по-разному. В продуманном и разработанном образе часто появлялись не только новые выразительные средства, новые интонации, но даже иные мотивы интерпретации. В подавляющем большинстве случаев спектакли проходили в плохих условиях, но на самом высоком уровне. Немало статей с болью констатируют несоответствие дарований партнеров, нехватку элементарных театральных атрибутов и то, что все эти недостатки возмещались талантом Папазяна. Вот что пишет известная советская писательница и театральный критик Александра Бруштейн в статье о спектаклях в Перми («Советское искусство» от 30 марта 1938 г.). «Поверив Папазяну-Отелло, зритель верит всему и прощает. А прощать все-таки, пожалуй, не следовало бы. Нельзя прощать того, что система старорежимной халтуры отнимает у нас наслаждение таким спектаклем, где великолепный талант Папазяна не растрачивался бы на сокрытие убожества его антуража, а сверкал, усиленный достойными партнерами, оформлением и музыкой».
Сходные мнения выражали и другие газеты, причем статьи недвусмысленно озаглавливались «Театр одного актера».
Имя Папазяна зазвучало с новой силой после гастролей в Иране, Турции, Париже.
В 1934 году по приглашению известного режиссера Макса Рейнхарта Папазян побывал в Берлине. Репетировал Отелло в «Дойче театр» с Паулем Вегенером (Яго) и Евой Кнопф (Дездемона). Но гитлеровское правительство запретило иностранцу выступать на германской сцене. С тяжелым сердцем Папазян вернулся на Родину, где вновь с радостью ощутил себя полноправным гражданином и с новым вдохновением дарил свой талант соотечественникам.
Газета «Полярная правда» сообщает, что в Мурманске Папазян начал свои гастроли спектаклем «Анна Кристи». В других газетах читаем, что исполнялись фрагменты из «Сида» Корнеля, «Рюи Блаза» и «Марион Делорм» В. Гюго. В Харькове артист играл в инсценировке романа испанского писателя Бласко Ибаньеса «Кровь и песок».
Все творчество Папазяна получило признание критики и публики. Но больше всего написано и сказано об Отелло. Вспомним, что расцвет деятельности артиста пришелся на первые десятилетия Советского государства, когда возникли потребность и стремление выработать новые эстетические принципы. К классике относились еще недоверчиво, и то, что Папазян воплощал преимущественно классические образы, никак не способствовало его успеху. Надо было обладать действительно большим талантом, безошибочно чувствовать время, дыхание новой эпохи, чтобы донести до зрителя правильное понимание классики.
В интерпретации Папазяна, по единодушному мнению критиков, Отелло приобрел черты, близкие современному зрителю. Это простой, непосредственный человек, очень доверчивый и бесконечно любящий. И ревность его также сильна, как и любовь. Вновь обратимся к печати.
«Вечерние известия» (от 7 1928 г.): «Совсем другой Отелло Папазяна. В его исполнении шекспировский образ, не теряя своей монументальности и силы, приобретает огромную простоту и естественность. Папазян совлекает Отелло с торжественных высот трагедии на землю, превращает его в человека, а не героя. Это приближает его Отелло к современному зрителю, заставляет в него верить, делает его близким и понятным.
Трагедия Отелло не только в муках ревности, но и в страданиях человека, обманутого в своих лучших чувствах, в том, что он считал своим идеалом».
«Современный театр» (от 22 мая 1928 г.): «Сколько раз нам показывали мавров «экзотических». Совсем по-иному представлен Отелло Папазяном. Папазян с большим тактом, с огромным чувством меры уравновесил свет и тень своего Отелло. Он нашел верные пути к тому, чтобы представить перед нами человека, который всем своим прошлым находится в покое предренессансной эпохи, но который уже ощущает свободный ветер гуманизма. Так и на наших глазах рождается и утверждает себя его Отелло — человек Ренессанса».
«Наша газета» (от 4 мая 1928 г.): «Его Отелло не столько трагедия ревности («Чудовище с зелеными глазами», как ее определяют в пьесе), сколько большая драма большого и нежного чувства. Его ревность — следствие, причина — любовь. И эту любовь он играет».
И таких отзывов множество.
Около трех десятков лет ездил Папазян по нашей стране. Но дом его был в Ленинграде. Город на Неве стал его второй Родиной. Здесь, в Ольгино, он вкусил радость семейной жизни, счастье отца и мужа. Это был единственный оазис покоя, куда он всегда стремился из дальних странствий. Здесь он схоронил свою Тину, терпеливую и преданную подругу жизни, погибшую от фашистской бомбы. С Ленинградом связана и его артистическая деятельность, потому что здесь лучше всего раскрылся его яркий талант. Во многих городах нашей страны он мог бы найти теплый приют, но в тяжелую годину он не покинул родного города, остался, чтобы разделить с ленинградцами бремя невзгод и лишений. Также поступил и другой наш соотечественник, директор Государственного Эрмитажа Иосиф Орбели. В одной из своих книг Папазян писал: «Я полюбил этот город, и город полюбил меня настолько, что… все четыре года мы вместе умирали и воскресали вместе».
В его архиве сохранились два пожелтевших листочка из роли Труфальдино, написанной по-русски «с армянским акцентом». Пятидесятишестилетний артист вернулся к этой роли, которую играл в ранней юности в труппе Годзи. Что это? Шалость или нескромная демонстрация своих способностей? Ни то, ни другое. Вот что писала «Алтайская правда» (от 29 сентября 1945 г.) о больших гастролях труппы Папазяна в Барнауле и Рубцовске. «Есть мастера искусств, подлинные большие художники, которые, обладая крупным своеобразным дарованием, раз и навсегда ставят перед собой основную жизненную и творческую цель. Во имя этой возвышенной цели они трудятся всю жизнь, беспрестанно совершенствуют достигнутое, добиваясь филигранной отделки образов, подобно великим мастерам эпохи Возрождения, оставившим миру непревзойденные образцы такого вдохновенного и изумительного по своей завершенности труда. Такие художники как бы перерастают узко национальные рамки и становятся достоянием всех народов мира. Касаясь театра, мы можем назвать имена Эдмунда Кина, Томазо Сальвини, Айры Олдриджа, Мочалова, Каратыгина, Сары Бернар.
К таким художникам, во всяком случае, родственным им по духу и отношению к своему творчеству, несомненно, принадлежит получивший мировую известность и признание как смелый своеобразный толкователь гениальных шекспировских образов, народный артист республики Ваграм Папазян».
Стойкий многолетний успех Папазяна, постоянный интерес к нему прессы и публики способствовали появлению автобиографических записок мастера, озаглавленных «По дорогам мира», опубликованных в седьмом номере журнала «Молодая гвардия» за 1937 год. В дальнейшем эти записки легли в основу книги «По театрам мира», которая вышла в свет в Москве в 1939 году. Таким образом, как писатель Папазян впервые выступил перед русским читателем.
Эту статью мы хотим завершить высказыванием Вл. И. Немировича-Данченко, запечатленным на гербовом бланке МХАТа 21 ноября 1928 г. «Папазян — один из тех, очень немногих, прекраснейших исполнителей классического репертуара, которые заслуживают мировой славы. Обаятельная внешность, красивая пластика, великолепная дикция, вспышки заражающего темперамента и благородный вкус, — такою представляется мне артистическая личность Папазяна».
Перевела Ю. Григорян